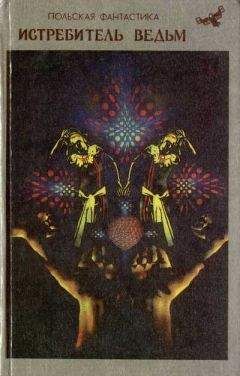Перед нею на столах лежало несколько окоченевших тел, накрытых застиранными серыми простынями, и из-под простыней лишь шершавые бледные ступни бесполезно высовывались. Старуха скинула простыню с восемнадцатилетнего обнаженного тела Максима Перевалко, разбитая голова того была уже отмыта от крови, и на лице его темном застыло последнее его противоестественное недоумение. Несмотря на повреждения, тело молодого человека понравилось старухе, хороши были впалая грудь и плоский живот, выпиравшие кости — тазобедренная и ключицы — придавали фигуре Максима гармонические очертания почти уж оформившейся мужественности; старуха долго рассматривала гениталии, не тревожимая никем, потом провела пальцами по бедрам мертвеца и, вздохнув, накрыла тело простыней. Потом сходила за стулом, поставила его между столов, уселась тяжело и стала рассматривать Казимира, которого и прежде знала неплохо и видела часто.
Тот был будто живой, ехидство замерло в углах его непокорных губ. На лбу и переносице были у него застывшие черные ссадины. Старуха наклонилась к Казимиру, словно собираясь согреть его своим дыханием, и почувствовала запах тела, или ей только почудилось, будто почувствовала.
— Вот, — сказала старуха. Задумалась, губами пожевала в безмолвном оцепенении, стул скрипнул под старухой, но и сей звук не растормошил на минуту задумавшуюся старуху. — Я так и знала, что так выйдет, — говорила еще она. — Я и Лизе сказала: Казимира надо беречь. Таких больше нет. Но разве кто ж послушает старого человека? Они думают: что, если старый, так и помирай — одна твоя задача. Так, что ль?.. — встревожилась Никитишна. — Ты-то, поди, не считаешь эдак… Ты один был человек, с тобой поговорить можно было. Захочешь поговорить, вот непременно и вспомнишь о Казимире. А теперь — все!.. Нет тебя. И никто не хочет со мной разговаривать, ругаются только.
Никитишна замолчала. Где-то едва слышно капала вода; возможно, в другом помещении, однообразное отдаленное гудение компрессора нарушало застывшую здесь тишину. Старуха вздохнула.
— Нет, насчет Лизы, это я — ничего!.. — говорила Никитишна. — Она девка-то нормальная, добрая девка. Ты не думай… Что ж поделаешь, ежели жизнь такая?.. А где ее другую взять? Жизнь, она только одна. Это только говорят: переселение душ, переселение душ!.. А где оно, это переселение? Кто его видел? Нет никакого переселения. Так ведь? Ты, Казимирушка, теперь должен знать-то. Ты сейчас где? Ты здесь, аль отлетел куда? Рай-то, конечно, это выдумки, — и ребенку ясно. И ад тоже — сказки. А вот ничто — не знаю. Ничто-то пострашнее будет. А, Казимирушка? Ничто там или как? Молчишь. Раньше говорил, а теперь молчишь. Молчишь, когда говорить-то и надо бы… Ну что ж, тебе-то видней, конечно…
Старуха еще пожевала губами и почмокала. Она снова всмотрелась в лицо Казимира; ехидство будто еще отчетливей прорезалось на нем, неподвижность казимировых черт лица слегка пугала Никитишну, несмотря на искушенность ее немолодого сердца и опыт дней ее замысловатых.
— А ты бы, Казимир, только мне одной сказал, а?.. — говорила еще старуха. — Сказал бы мне, что там… А я уж никому переносить не стану. Нельзя — значит нельзя, я ведь понять могу. Я ведь не дура. Меня тут все за дуру держат, но разве ж дуры такие?.. Нет, не такие!.. Ну так что, Казимир, скажешь? Скажи, Казимирушка!.. — попросила старуха. — Ничто или что-то? А? Скажи только это. Ничто или что-то? Мы ведь с тобой были друзья, Казимирушка, так ведь? Скажи… — она смахнула пресную старушечью слезинку из уголка глаза ее усталого. — Скажи… — повторила она.
— Не что что-то… — невнятно сказал Казимир застылой своей грудью.
Никитишна вздрогнула и обернулась. У входа стояла Лиза и молча наблюдала за ней.
— Уже вернулась? — говорила Никитишна. — Как там твоя гимнастика?
— Опять сюда молиться ходишь!.. — недовольно говорила молодая женщина. — Совсем мозгов лишилась.
— Ничего не молиться, — возражала старуха, вставая. — А чего за мной шпионить-то, не понимаю?..
— Никто за тобой не шпионит. Иди, там психологи твои приехали. Зарплату просят им выдать.
Старуха поправила простыню на Казимире, вздохнула и, будто собака побитая, поплелась к выходу.
Нацепив очки, она долго листала тетрадь Гальперина. Она и без того знала все их последние заслуги, товара они в последнее время привозили достаточно, но все как-то выходило бестолково, много было порченого, причем по собственной их нерасторопности, но Лиза отчего-то терпела их, не говорила ничего; так что, вроде, и у Никитишны не было особенных оснований для придирок. Больше всего ее раздражал несуразный почерк Гальперина, торопливый и вычурный, он же ей казался еще нахальным и дерзким.
— Пишешь, как курица попой, — только и пробурчала она.
Гальперин, нервно похаживавший подле старухи, промолчал. Иванов угрюмо стоял у окна, смотрел через мутное, запотевшее стекло на двор и барабанил по подоконнику пальцами.
Гальперин, чтобы немного отвлечься, шагнул к двери раскрытой, желая поговорить с Лизой.
— Лизонька, — ласково говорил он. — Нам стало гораздо труднее работать без Казимира.
— А кто его укокошил? — гаркнула Никитишна со своего места.
— Не вмешивайся, — осадил ее Иванов.
— Хорошо, — равнодушно говорила Лиза, едва взглянув на Гальперина. — Я подумаю об этом.
— Подумай, подумай, пожалуйста, — льстиво попросил ее тот. И вернулся на место походкою своей осторожной.
Наконец, упрямая старуха закончила чтение, вооружилась калькулятором и стала считать.
— Шестнадцать единиц товара, из них одиннадцать пола мужескаго, три женскаго и два детскаго… — говорила старуха.
— Таблицу умножения-то не забыла? — мрачно сострил Иванов.
Гальперин, улыбаясь рассеянно, кивал головой, будто поддакивал.
— Одиннадцать умножить на восемьдесят пять, итого девятьсот тридцать пять; степень износа высокая — шестьдесят процентов, умножаем на ноль-шесть, — бубнила старуха.
— Как на ноль-шесть? — вскинулся Гальперин.
— Так на ноль-шесть: товар никудышный, безобразный — даже на запчасти не годится.
— Нет, на ноль-шесть я не согласен. Что такое ноль-шесть? Ноль-шесть это вообще ни в какие ворота не лезет! Иванов, скажи ей.
— Да, — весомо сказал психолог. — Ноль-восемь это еще куда ни шло. А уж ноль-шесть… — он посмотрел на Никитишну исподлобья.
— Ноль-восемь там и рядом не ночевало, — передразнила старуха. — Выходит пятьсот шестьдесят, — говорила Никитишна, взглянув на калькулятор.
— Лиза, Лиза, что это вообще такое?! — затараторил Гальперин, обращаясь к женщине, сидевшей за книгой в другой комнате с раскрытой дверью. — Я не понимаю, что происходит каждый раз. Это просто какая-то расовая дискриминация, иначе я это объяснить не могу.