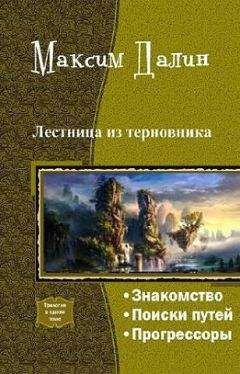Ма-И приваливается головой к моему плечу, шепчет:
— Ты всегда вовремя, Ник…
— Всё, молчи, — ворчу я. — Дел у меня больше нет, кроме того, чтоб тебя лечить, болезненное ты Дитя…
Я уношу Ма-И в дом. От шума просыпается Ви-Э и свистит:
— Оэ, ну дела…
Я обрабатываю рану Ма-И по-настоящему, Ри-Ё помогает, молча и точно выполняя приказы. Ма-И смотрит на него слишком уж нежно.
— Господин Л-Та не умрёт? — спрашивает Ри-Ё шёпотом. — Если умрёт, я всё равно убью этого гада Тви — и пусть будет, что будет…
— Никто не умрёт, — говорю я. — Что ж мне с вами делать…
— Учитель, — несёт Ри-Ё тоном Ромео, — я отправлюсь на войну, я совершу подвиг, я… я придумаю, как…
— Ты уймёшься, — говорю я. — И дашь Господину Л-Та поспать, а пока он засыпает, сходишь за Господином Юу из Семьи Л-Та. Ему надо объяснить, в чём у его братца дело… пока до Государыни не дошло.
Ри-Ё исчезает быстро и бесшумно. Я развожу общеукрепляющее в чашке чок. Ма-И задрёмывает у меня на постели — лишая меня самого места для спанья. Ви-Э говорит вполголоса:
— О-оо, Гром Небесный, какие страсти…
Это он прав, однако. А главное — как вовремя…
* * *
Солнце поднималось всё выше, постепенно согревало мир — и мир капал и тёк. С загнутых карнизов, с подоконников, с крыш беседок, с загнутых бортиков каменных ваз, с голых ветвей стеклянной бахромой свисали сосульки, а с них капала вода. Лёд таял и расплывался в лужах, а небеса выглядели так ярко и свежо, будто под ними лежал не промёрзший север, а цветущая чангранская долина.
И Анну думал о доме.
О цветущем миндале, о вишне и сливе, о белой пене цветов, которая покрывает по весне весь Чангран, делая его похожим на упавшее с неба облако. Об узких грязных улицах. О Дворце Прайда, голубом и золотом мираже, о его башнях, увитых плетями вьющихся роз, о золочёных решётках в виде цветочных кущ, о коврах из красной и голубой пушистой шерсти. О сожжённых городах, откуда привезли эти решётки и эти ковры, и эти голубые и золотые изразцы с перьями райских птиц, и эти розовые кусты — заодно с рабами и рабынями, без которых всё это за небольшое время превратилось бы в дикие заросли и пыльный хлам. О великолепных всадниках в надраенных кирасах, на холёных жеребцах, блестящих, как шёлк, и о жалком люде, сером от пыли, шарахающемся из-под лошадиных копыт. О своих братьях, о их лошадях, их рабынях и их детях, швыряющих камни в птиц и бездомных псов, о старом и любимом доме, в котором прохладно в жару и еле заметно пахнет полынью, об отце, усталом и постаревшем, но по-прежнему сильном… О рабах и рабынях, которые крутят колесо жизни, как старые лошади, качающие воду из каналов на поля, и подыхают в упряжке, как старые лошади…
И об Ар-Неле. И о незаслуженных улыбках северян. И о войне. И о письме Льва. И о голове Элсу. И острая боль, такая реальная, будто её вызывали не мысли, а настоящая сталь, втыкалась в сердце, как длинный стилет.
Можно было только молчать.
Вот в этот-то момент, когда Анну окончательно решил погубить свою душу ради любви к Ар-Нелю и ради неожиданной жалости к парадоксальной Ар-Нелевой родине, он вдруг увидал самого Ар-Неля, без плаща, в широком пёстром шарфе, накинутом на плечи, машущего ему рукой у входа в флигель гостей.
Поймав взгляд Анну, Ар-Нель крикнул:
— Анну, иди сюда скорее! Ты должен это видеть, друг мой!
Анну побежал к нему. Ар-Нель распахнул дверь в апартаменты южан.
— Анну, я не простил бы себе, если бы ты пропустил такое зрелище! Это уморительно, клянусь Светом Небесным! — воскликнул он, смеясь.
А из-за двери слышался шум и гам — лязг железа, хохот, лянчинская брань — звон стекла, чей-то придушенный вопль…
Анну влетел в покои, чуть не сбив Ар-Неля с ног.
В обширном зале, отделяющем выход в сад от внутренних покоев, где обычно стоял караул волков, был форменный кавардак. На полу валялись сухие цветы и осколки стекла — вазу, украшавшую зал, расколотили вдребезги. Волки, ошалевшие от происходящего, жались к стенам. Наставник, украшенный отменным синяком в полфизиономии, сидел на полу в углу и громко сулил грязным язычникам бездну адову. Когу вжался в другой угол. Ник сполз по стенке на пол, стонал и вытирал слёзы. А в центре зала Эткуру рубился с незнакомым светловолосым северянином.
Элсу дрался своим кривым мечом с львиной рукоятью. Северянин оборонялся странной штуковиной, вроде стебля тростника с сочленениями, отлитого из металла и приделанного к эфесу — не тем орудием, которым легко убить, но вполне достаточным для парирования ударов. На щеке северянина горел отпечаток пятерни Эткуру, а у Эткуру под челюстью красовался такой роскошный кровоподтёк, будто Эткуру был и не Львёнком вовсе, а подравшимся деревенским мальчишкой. И пребывал Эткуру в азарте и радостной злости, в нормальном, в кои-то веки, состоянии бойца — а северянин кривлялся и отпускал мерзкие шуточки, доводя правоверных до исступления.
— Пламя адское! — рычал Эткуру, атакуя, как в бою, а не как в привычном спарринге с вежливо поддающимися волками. — Что ж ты выделываешься, мне же тебя подарили!
— Да разве же я возражаю, солнышко? — северянин удивлялся всем телом, воздевая руки, глаза и брови. — Тебе подарили — бери! Возьмёшь — твоё!
Ар-Нель рядом всхлипнул от смеха. Анну невольно улыбнулся — зрелище было чудовищно непристойное и отменно забавное. Наставник визгливо крикнул из своего угла, прижимая ладонь к ушибленной роже:
— Волки! Да остановите же, кто-нибудь, этого северного бесстыдника, чума его порази!
Хингу и Олу дёрнулись вперёд, но Эткуру тут же гаркнул, как на собак:
— Не сметь мне мешать! Не сметь его трогать!
Северянин лизнул кончики пальцев свободной руки и отвесил бессовестный поклон:
— Правильно, солнышко, правильно! Не давай чужим трогать свою подругу — это по-нашему!
— Заткнись, неверный, тебя не спрашивают! — выдохнул Эткуру.
— Конечно, конечно, я — скромненькая, — блеющим голоском молочного ягнёнка согласился северянин.
— Да убей же эту гадину, Львёнок Льва! — выкрикнул Лорсу, сжимая кулаки. — Выпустить ему кишки!
— Я с тобой потом поговорю, предатель, — пообещал ему Эткуру, отвлёкся и получил тычок в плечо, да такой, что сделал шаг назад. — Заткнитесь же, гады! — заорал он на волков и начал лихую атаку. Анну залюбовался, пропустив этого "предателя" мимо ушей.
У северянина больше не осталось времени кривляться и хохмить. Он едва успевал отражать удары — Анну уже понял, что боец этот фигляр, всё-таки, не первоклассный, а быстрота и гибкость помогают не всегда. Меч Эткуру не рассчитывали на такие поединки; Анну невольно ждал, что рубящий удар сейчас закончит весь этот фарс и успокоит северного шута навсегда — но Львёнок Льва оказался маневреннее, чем Анну думал.
Лезвие меча Эткуру скользнуло по лицу северянина, вспоров скулу. Кровь брызнула струёй, северянин ахнул, волки взревели, Когу пробормотал: "Ну что ж ты, Львёнок…", — а Анну подумал, что теперь настал момент перерезать шуту горло, и ощутил очередной удар боли в душе от этой мысли.
— Оэ, легче, солнышко! — вскрикнул северянин с какой-то детской, то ли огорчённой, то ли обиженной интонацией. — Это ж больно! Так ведь можно и того… без подарка остаться!
— Положи свою палку, — приказал Эткуру.
— А вот это — просто грубо, — укоризненно сказал северянин, стирая кровь с лица. — И нечестно.
Всё это прозвучало неожиданно трогательно и так уморительно, что даже у волков невольно расплылись физиономии.
— Я думал, тебе уже хватит, — усмехнулся Эткуру. — Не рубить же тебе пальцы!
— Нет уж! — возразил северянин и возмутился всем телом, превратив боевую стойку в пародию на неё. — Никаких поблажек. Ты — варвар или нет?
Наставник снова что-то возмущённо завопил, но Эткуру только улыбнулся.
— Сам нарвался, — сказал он совершенно незнакомым Анну тоном — зловеще-ласковым, обещающим ужасные беды, но как-то не всерьёз — и сделал стремительный выпад. Металлическая палка вырвалась у северянина из рук, кувырнулась в воздухе и врезалась в колено Когу. Когу взвыл и разразился проклятиями — а Эткуру и северянин совершенно одинаково расхохотались.
— Исключительный приём, просто исключительный, — сказал шут одобрительно. — Ты научишь ему свою бедную девочку, солнышко?
Анну ждал, что именно теперь и Эткуру и прикажет волкам держать северянина, чтобы получить его окончательно, но после дурацкой драки всё пошло наперекосяк. Северянин подошёл сам и, прежде, чем Эткуру успел среагировать, тронул пальцем его подбородок — где синяк.
— Прости, солнышко, — сказал он кротко. — Ты первый начал.
— У тебя кровь течёт, — сказал Эткуру невпопад.
— Снизу быстрее остановится, — выдал шут беспечно. — Где у тебя спальня, Принц? Я застенчива и не выношу, когда чужие глазеют, — и снова изобразил всем телом неимоверную стыдливость забитой рабыни, что, почему-то, выглядело невероятно смешно.