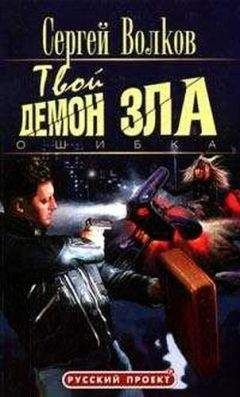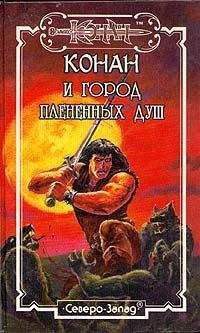Дорога постепенно забирала вверх, стеной подступил с двух сторон лес, в салоне «Чайки» стало темно от заслонивших солнце деревьев, потом подъем кончился, лес вдруг отступил, и машины вырвались на залитый солнцем, ослепительно блистающий заснеженный косогор.
– Стоп, машина! – скомандовал Борис, распахнул дверцу, помог Лене выйти, подвел ее к краю дороги, махнул рукой:
– Ну как, нравиться?
Я, поддерживая похожую на медведицу Катю, глянул туда, куда показывал Борис. Перед нами расстилалась огромная, уходящая на восток речная долина. Река, летом, видимо, не большая, зимой, покрытая снегом, скрывающим очертания берегов, казалось огромной, широкой и могучей в своей спящей красоте. Величественные сосновые боры возвышались на правом ее берегу, левый уходил к горизонту плоской равниной, на которой то здесь, то там росли громадные, раскидистые дубы.
Кое-где у реки из снега торчали сухие метелки камыша, а на ровной, не тронутой белой скатерти снега виднелась аккуратная цепочка лисьих следов.
Катя прижалась ко мне, прошептала в ухо:
– Вот так живешь всю жизнь в столице России, а саму Россию увидишь вдруг только на тридцать четвертом году жизни. Господи, хорошо-то как!..
Подъехали чуть отставшие две остальные машины. Гости выходили из салонов и все, как один, ахали: «Мать честная, красотища!» Радостный воплощению своей мечты Борис отобрал у кого-то из знакомых видеокамеру, снял Лену на фоне заснеженной реки, потом схватился за фотоаппарат, но тут вмешался свидетель, то есть я:
– Борька, ты же жених! Вернее, уже муж. Иди к молодой жене, я вас сниму.
– Э-э-э… Позвольте мне, вы же тоже не последнее лицо на свадьбе – свидетель. – раздался вдруг у меня над ухом низкий бас. Я повернулся и увидел склонившегося над ним того самого бородача, с которым хотел познакомиться.
«Удачно», – подумал я, отдавая фотоаппарат: «Будет теперь повод заговорить».
Нафотографировавшись, выпив, кто – шампанского, а кто и водочки, порядком замерзшие гости вернулись на свои места в машинах, и кортеж лихо понесся назад, в местную церковь, венчаться…
В церкви, пока молодой батюшка, больше похожий на рок-музыканта в рясе, выполнял все необходимое, я откровенно заскучал. Мне почему-то с детства не нравилось в церкви, запах ладана, горящих восковых свечей и общая атмосфера таинственного, внеземного, божественного внушали иррациональный какой-то страх, страх смерти или страх перед смертью, не знаю…
– Венчается раба божья Елена и раб божий Борис… – хорошо поставленным голосом тянул батюшка, а я внутренне весь сжался, держа над головой невесты тяжелую венчальную корону.
Из церкви поехали домой, пировать. У дома молодых уже ждали старушки-соседки, Светлана на правах старшей родственницы вынесла икону, Борис с Леной поцеловали скорбный лик богородицы, потом начались всякие народные обряды, типа ломания каравая хлеба – кто больше отломит, тот и будет хозяином в доме.
Наконец Борис подхватил жену на руки и под восторженные крики гостей внес ее в дом. Все гурьбой повалили следом, рассаживаться за накрытыми столами в «горнице».
В общей кутерьме Катя случайно столкнулась с бородатым, узнала его, а он – ее. Оказалось, что Володя – давний завсегдатай «КИ-клуба», и одновременно друг Бориса по давней работе в НИИ Архивного Дела. Обо мне он много слышал от Епифанова, а когда узнал, что знаменитый Воронцов – муж его одноклубницы Катеньки, удивлению Владимира не было предела…
Свадебный стол поражал изобилием. Запеченные поросята, два осетра полутораметровой длины, копченый гусь, умело загримированный под лебедя, гульчахра в громадном казане, пельмени – тазами, соленые и маринованные грибы сортов пяти, не меньше, салаты… Эх, да что салаты! Повсюду высились, подобно нацеленным на врага ракетам бутылки коньяка, водки, виски, вина, шампанского, а между блюд, салатниц, бутылок и букетов цветов притаились в небольших розетках горки красной и черной икры…
«Борька с Ленкой угрохали на свадьбу все свои сбережения, да еще и занимали, наверное», – подумал я, усаживаясь, как положено свидетелю, справа от невесты. Вспомнилось, как Борис хвастался, что с деньгами у них все в порядке. Н-да… Видимо, было в порядке…
И пошла гулянка. Звучали тосты, бухали в потолок пробки шампанского, гости азартно кричали «Горько!», дарили подарки… На террасе было прохладно, и после горячего все полезли из-за стола плясать, и выплясывали при этом так, что половицы гнулись, а на столе подпрыгивали рюмки. Приглашенный из Дома Культуры баянист отмотал все пальцы, пытаясь угодить всем, кому – рок-н-ролл, кому – барыню, кому – частушки…
Потом пели хором, в основном Света с соседками, и все больше русское народное, да какое-то самобытное, неизвестное, я только удивлялся. И опять – поздравляли молодых, опять плясали, выбегали на улицу играть в снежки, и снова садились за стол…
Часам к девяти вечера «сменили обстановку» – невеста собственноручно зажгла свечи, свет на террасе потушили, откуда-то появилась гитара, и пошли более знакомые песни: Высоцкий, Розенбаум, Никитины, Цой, Науменко, Гребенщиков…
Гитара гуляла от одного исполнителя к другому, даже сама невеста «тряхнуло стариной», исполнив свою знаменитую «Черную кошку». Я, к музыке относящийся, как говориться, «с любовью и уважением», с удовольствием слушал, подпевал, заказывал новые песни – самого-то природа обделила и слухом и голосом.
Неподалеку от меня сидел смуглый, чернявый парень, гость со стороны Бориса, всю свадьбу хмуро крививший губы. На волне всеобщего застольного братства его не веселое лицо как-то больно резануло меня по глазам, и я крикнул чернявому:
– А ты что такой кислый? Петь-играть можешь?
Парень словно бы отвлекся от своих мыслей – улыбнулся застенчивой, хорошей улыбкой и кивнул – могу.
– Гитару сюда! – завопил я, уже изрядно принявший «на грудь» и потому – зычный и веселый. Дали гитару. Чернявый провел рукой по струнам, запрокинул голову, и вдруг выдал резкий, рубящий ритм, дергая струны всей пятерней, а потом высоким и одновременно хриплым голосом запел:
Поставьте памятник Свободе.
Прекрасной деве, идеалу.
Мерилу чести, патриотке,
Так уважающей себя.
Из мрамора адреналина,
В зеленой тоге алкогольной,
С отечной близостью инфаркта
Взойдет на пьедестал она.
Ее прекрасные ланиты
Вцелованы в гнилые десны,
А девственность молочных желез
Удостоверит силикон.
Глаза Свободы – словно небо.
Зрачки – дымы канцерогенов.
А губы алые Свободы
Подобны дикторам ЦТ.
Она ногою горделиво
Стоит на цоколе гранитном,
Миниатюрными ступнями
Обута в тапочки «Симод».
В руках Свобода держит факел,
Воспоминанье Нюрнберга.
И сотни тысяч наркоманов
Прикуривают от него.
И вьется над ее главою,
Подстриженной под Аль-Капоне,
Прекрасный вестник мира – голубь,
Кричащий почему-то: «Карр!»
Вы восторгайтесь вашей девой,
Ведущей вас к счастливой жизни,
Но не забудьте, замуруйте
В бетонный пьедестал меня…
И столько было горечи, ярости и злости в этой диковинной песни, что притихли невольно гости, смолк «веселья глас», а я почувствовал себя виноватым – не надо было трогать человека…