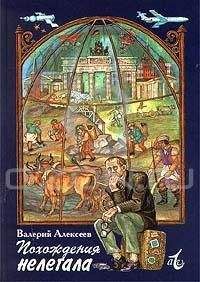— Дисминуизация — это, конечно, прекрасно, — задумчиво говорил мой хозяин. — Можно делать крупные украшения, затем изящно их миниатюризировать, при этом стоимость их, естественно, возрастет… но это имеет смысл только при работе с полудрагоценными материалами.
Я молча слушал: специалисту виднее.
— Но почему вы утверждаете, что не можете укрупнять объекты? — спросил вдруг Ройтберг. — Это же неверно: вы просто ни разу не пробовали.
Я возразил в том смысле, что пробовал, и неоднократно, но без малейшего успеха: природой здесь поставлен мне предел.
— Не понимаю, о каком пределе вы говорите, — нетерпеливо перебил меня хозяин. — Представьте себе: вы возвращаетесь с моего рабочего стола, прихватив с собою алмазную пылинку. Разве эта пылинка не увеличится вместе с вами в сто, в двести раз? Вместо нее мы будем иметь алмазную глыбу. Или я в чем-то неправ?
Я признал правоту собеседника, хотя ход его мысли был для меня несколько неожиданным.
— А кто мешает вам дисминуизироваться и вновь вернуться, положив руку на эту глыбу? — с энтузиазмом продолжал Ройтберг. — В итоге мы получим такой кристалл, в сравнении с которым Кохинур будет выглядеть просто ничтожным.
Да, это была поистине гениальная идея, в корне менявшая мое представление о возможностях дисминуизации и открывавшая поистине беспредельные возможности.
В порядке эксперимента мы попробовали увеличить перстень с рубином, который г-н Ройтберг носил на среднем пальце левой руки.
То есть, увеличивал, разумеется, я, ювелир только наблюдал, но идея принадлежала ему, вот почему я и говорю "мы".
Дисминуизировавшись, я приблизился к лежавшему на столе перстню, положил на него руку — и вернулся в полноразмерный мир.
Из перстня получилось нечто чудовищное, высотой под потолок, ни дать ни взять — детекторные ворота, через которые проходят в аэропорту пассажиры.
Элегантный старинный перстень превратился в грубую, со множеством засечек и заусениц, металлическую болванку.
Проба золота, впрочем, не изменилась: Ройтберг не поленился это проверить.
А из рубинового монолита можно было смело высекать надгробный обелиск.
Больше, кстати, ни на что этот камень и не годился: даже невооруженным глазом в его толще можно было увидеть множество мелких трещин.
Ройтберг очень огорчился.
— Испортили старинную вещь, — сказал он со вздохом.
Перстень был дорог ему как память, и по его просьбе я вернул изделию нормальные размеры.
Впервые в жизни я видел человека, который добровольно отказался от такой массы высокопробного золота.
— В нашем деле количество разрушительно, — сказал Ройтберг. — Надо всё аккуратно просчитать. Завтра же я этим займусь. Если, конечно, вы согласны работать у меня в фирме.
— А если не согласен? — поинтересовался я.
— Тогда я немедленно сдам вас германским властям, — жестко ответил Ройтберг. — Как автоугонщика и нелегала.
Мой ответ, я думаю, нетрудно предугадать.
105
Так я обрел всё, о чем даже и не мечтал.
У меня появилась собственная лаборатория, оборудованная по последнему слову науки и техники: совершенно изолированное помещение с трехступенчатой сигнализацией, с экранированными окнами, дверь открывалась только от прикосновения руки — моей либо самого шефа.
У меня появился социальный статус: Ройтберг оформил меня как приглашенного по контракту технического советника, работающего на гонорарной основе.
Сотрудники фирмы вставали с мест, когда через общий зал я шел к титановым дверям своей лаборатории.
Признаюсь, это мне было приятно.
Я так устал от людского презрения к себе.
Должен сказать, что шеф вовсе не пользовался моим положением безысходного нелегала: гонорары он мне выплачивал такие, что им позавидовала бы и голливудская кинозвезда.
Месяца через три мы с Керстин переехали в прелестный пряничный домик из штучного красного кирпича с садом, где цвели черные магнолии.
Домик был записан на имя моей подруги, что она восприняла с удивительным спокойствием.
Тут же обставила его по своему вкусу, то есть светлой мебелью из сосновых досок, в результате чего домик наш стал тоже напоминать лыжную базу.
Для сада Керстин накупила глиняных гномов, уточек, собачек, расставила их в высокой траве, сама любовалась возникшим эффектом и призывала восхищаться других.
Один из гномиков, крашеный болван полуметрового роста, был, по ее мнению, похож на меня. Если бы я не был уверен, что Керстин не подозревает о моем проклятом даре, можно было бы расценить это как обидный намек. Я постоянно об эту кичуху спотыкался и дал себе слово при первом же удобном случае дисминуизировать все фигурки и спустить в унитаз. Скажу, что соседи украли.
Единственным цивильным местом в доме была кухня. Надеясь пристрастить Керстин к кулинарии, я купил чудо-гарнитур с двумя холодильниками и посудомоечной машиной.
Подруга моя очень расстроилась.
— Пятнадцать тысяч! — печально повторяла она. — Такие деньги, мать-перемать! Я же совсем не готовлю!
Что верно, то верно: на кухню Керстин заходила лишь для того, чтобы достать что-нибудь из отделанного "рустикальным" деревом холодильника. Питались мы, как и раньше, поврозь, разве что по субботам ужинали в китайском ресторане.
Вообще подруге моей не нравилось, когда я делал самостоятельные крупные покупки: бережливая душа ее начинала кровоточить.
Когда нам в гостиной постелили тебризский ковер, она разгневалась и устроила целый скандал:
— Ну, почему ты не посоветовался со мной? Что за российская манера шиковать? Чем тебе не нравились мои старые половички? Куда ты их выбросил? Я понимаю, что деньги для тебя теперь говно, но как ты мог не подумать о детях?
Этот прихотливый зигзаг мысли поверг меня в оторопь: неужели у Керстин пробудился инстинкт продолжения рода?
— О каких еще детях? — осторожно спросил я.
— О маленьких иранских детях! — патетически воскликнула Керстин. — О несчастных малолетних рабах, которые по двенадцать часов в сутки плетали… нет, плели эту дрянь. Мне стыдно ходить по такому блядскому ковру.
Это была наша первая ссора, от неожиданности я даже растерялся.
Чтобы урезонить подругу, я сочинил трогательную историю о своем бедном беззащитном детстве, когда в доме у нас не было даже половичка, и мои маленькие босые ножки ходили по холодному полу. Так и родилась моя мечта о тебризском ковре размером шесть на восемь, которую только теперь я сумел воплотить в жизнь.
Эта история растрогала мою подружку, и мы долго плакали, обнимая друг друга. Точнее, плакала она, я же лишь умывался ее гуманитарными слезами.