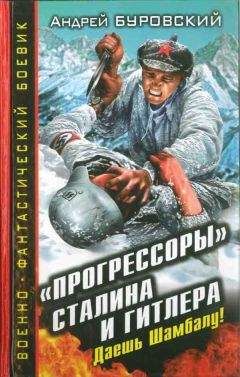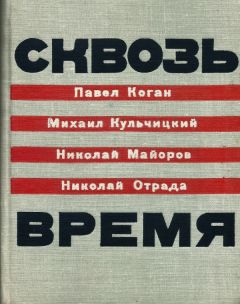— Добрый день или доброе утро… У вас уже день или еще утро, молодой человек? — приветливо и вместе с тем равнодушно осведомился Рихман. У него было молодое энергичное лицо: в конце концов, Георг Рихман погиб, когда ему было всего сорок два. — Вы в нашу компанию? Вот и отлично, вам сейчас все объяснят.
Спокойно-вдохновенное лицо герра Георга отражало одно основное желание: продолжать чертить то, что и чертил до появления Пети. Петя же с любопытством отметил, что уже перестал удивляться. Скорее его удивило бы полное отсутствие чудес.
Первый проводник беспрерывно трещал. Половины Петя или не улавливал, или слышал, но не понимал, но хоть что-то делалось понятно: в Тибете полным-полно воды, кто говорит, будто ее нет, тот сам ни черта не понимает, только почти вся эта вода или подземная, или в озерах. И что вот было гениальное решение — отвести немного воды от одного озера, лежащего отсюда в нескольких километрах и на колоссальной высоте. Вода чистая, прозрачная, по своим характеристикам почти как в Байкале, чуть ли не лучшая в мире. И в ней полно совершенно замечательных микроэлементов. Кто говорит, что это плохая вода, врет как сивый мерин, тому Петя должен непременно плюнуть в рожу.
Вода из озера, с высоты в пять тысяч триста метров, поступает вот сюда, на высоту три тысячи девятьсот, а потом она течет дальше, и ее используют для гидропонного выращивания растений, а также и для сельского хозяйства.
— А озера хватит надолго?
— Герр Георг говорит, что хватит на двадцать тысяч лет, дядя Адя говорит, что воды хватит навсегда, мы берем не больше, чем в озеро поступает. Кто из них прав, всё никак не могу разобраться. Может, вы и поможете?
— Дядя Адя… Это кто?
— Андрей Фердинандович… Фамилия известная — Михельсон… Он в СССР мог стать начальником отдела снабжения Аэрофлота, но инженер — милостью божьей, а его в сэсээр к инженерным проектам не допускали. Он и начал работы на озере Тонг-Цо, уже давно. Так вы больше куда хотите: на атомную установку, на водное хозяйство, на гидропонику? Или лучше на станки, на ремесло? А то, может, сразу пойдете учиться на инженера? Лучшей стажировки, чем у нас, вы нигде не найдете, новичок! И компания очень дружная. Это вам не сводные отряды, которые яков доят. Мы, техники, чуть ли не единственные в Крепости, кто живет не там же, где работает, и то у нас комнаты рядом.
— Я еще не решил, думать буду.
— Тогда думайте, а как надумаете, сразу найдите меня здесь.
Уже поднимаясь на лифте, Петя сообразил: он ведь так и не узнал, как зовут его собеседника. Но, видимо, это не так и важно, найти инженера при необходимости будет совсем не так трудно… Хочет ли он сам работать на любом из этих участков хозяйства, Петя совсем не был уверен, но в любом случае хотел бы еще раз увидеть этого веселого, дельного парня.
Гурджиев дулся, и Пете пришла в голову дурацкая мысль: неужели он дуется из-за того, что не ему единственному внимание? Неужели он глуп до такой степени?!
— Библиотеку смотреть будете? — отрывисто выплюнул Гурджиев.
— Конечно!
— Совсем не устали?
— Немного… Полежать уже хочется… Но библиотеку посмотрю.
А получилось так, что в этот день не судьба была Пете добраться до библиотеки. Потому что как-то он привык уже — Шамбала, или она же Крепость, — мир подземный. Слепые коридоры без окон, неподвижный прохладный воздух, вибрация машин на глубине… А тут вдруг подуло по ногам. Петя даже не сразу понял, что это за удивительное ощущение. Ведь если чувствуется движение воздуха… значит… необходимо понять, откуда это!
Преодолевая ноющую боль в уставшей ноге, Петя двинулся против прохладного воздушного потока. Он легко нашел место, откуда холодный воздух начинал свой путь, чтобы потом коснуться его ног: самое обычное окно. В стене вырубленного в скале коридора было окно, как в привычном Пете современном доме: окно с открытой форточкой. Из форточки в коридор и тянуло.
За окном царил ясный тибетский день — пронзительная синева неба, рыже-коричневые, почти отвесные склоны… Склоны обрушивались на плоскую равнинку; от окна до нее — метров триста. Склоны образовывали окружность по крайней мере километров пять в диаметре, как сообразил на глазок Петя. С четвертой стороны из долинки как будто был выход между горными грядами, а на противоположной, восточной, стороне вздымались плоскогорья уже совсем неправдоподобной высоты, — наверное, за пять километров. В долинке вроде даже росла какая-то роща, еще за ней передвигались плохо различимые от расстояния пятнышки — явно какие-то животные. По долине вилась дорога, стояли длинные сараи.
— А можно туда выйти?!
— Конечно, можно, но ферма — это далеко. Нога ваша как?
— Вытерпит нога. Вот разве сперва пообедать…
Гурджиев сделал понимающе лицо: как официант в ресторане. Не то чтобы Петя очень опытен был по части официантов и ресторанов. Но в давние времена и в далеком отсюда городе Ленинграде побывал Петя в ресторане. Было это раз в жизни, но Петя тогда кое-что запомнил. Потому что Пете тогда очень забавно было осознавать, что «лакей», «прислуга» — это не исторические персонажи, которые бывали при царизме, а совершенно реальные, даже не старые люди. Как и большинство советских людей, он от души презирал всех «мещан» — всех, у кого душа недостаточно крылата. Например, тех, кто получает заказ и делает это самое «понимающее» лицо.
Тут получалось странно: Гурджиев — это же мистик, теоретик всяких загадочных явлений, то есть как бы человек наоборот, с чересчур уж крылатой и парящей невесть где душой. А повадки у него прислуги, то есть человека с душой вообще не крылатой, мещанской, от земли оторваться не способной. Да и вообще человек это завистливый, как отстающие студенты, и уже потому подозрительный; может быть, даже опасный. Петя изучал Шамбалу, но заодно — и Гурджиева. Он слишком не доверял таким людям и так боялся их, что старался не поворачиваться к ним спиной.
Что еще поражало в Крепости-Шамбале, так это еда. Петя привык к невкусному советскому хлебу, плохой водянистой колбасе, а в столовых — к скверным полусъедобным кашам, непонятному мясу, из которого непостижимым образом исчезает мякоть, тоскливым чуть теплым супам, разваренным до потери формы макаронам, к котлетам, и по запаху и по вкусу отдающим поджаренным хлебом.
Все всегда говорили, что есть дома — совсем другое дело, другая жизнь, потому что чужой чужому всегда как приготовит? Без души. А хозяйка своим родным — понятное дело, — с душой. Люди, изо всех сил ратовавшие за «общественное» и осуждавшие «частное», ухитрялись не видеть в собственных словах противоречия, но это уже совсем другой разговор. В любом случае даже три мужика — дед, отец, Петя — у себя дома готовили и ели вкуснее, чем в любой столовой, на производстве или в университете.