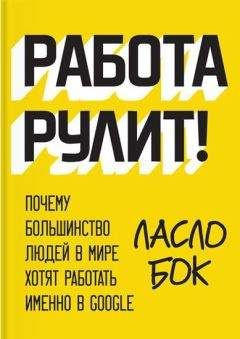– Сверхчеловек, а я говорю об истинном сверхчеловеке, растопчет вас. Или просто уйдет из вашего мира, не обратив особенного внимания на то, как вы живете, что вам нужно, даже на то, что вы собрались с ним воевать. Сверхчеловек будет по сравнению с вами как… кроманьонец по сравнению с неандертальцем. Или, скорее, как человек по сравнению с обезьяной. Вы не сможете оказать ему сопротивление.
– А может, он будет как дикий зверь против человека. Как мутант из Зоны. Контролер или бюрер… или эмионик… И нам останется лишь в очередной раз высчитать, какая именно яма поглотит очередного мамонта.
– Тимофей Дмитриевич, вы, никак, настроены своими руками прикончить будущее человечества? Да ведь это ксенофобия в чистом виде.
Вот он уже начал заклинать меня словами священных проклятий. Ксенофобия… до фашизма доберется или нет? Интересно мне. Ведь нынче понятие «фашизм» имеет произвольное наполнение. Фашизмом называется всё то, что не нравится человеку, который решил обозвать кого-нибудь фашистом. Раньше бы сказали: «Ты редкий мудак». Теперь скажут: «Ты настоящий фашист».
– Понимаете ли, драгоценный Александр Евгеньевич, вам сначала придется доказать, что такое будущее хоть в чем-то лучше настоящего и прошлого. Ну а не докажете, так на всякую черную тварь из реторты найдется свой безотказный дробовик.
– Закончим этот пустой разговор! Вы слишком часто ходили в Зону. И, кажется, умственно опустились до уровня некоторых ее хищных обитателей… – Терех решительно развернулся и пошел прочь.
Что-то ты, друг ситный, путаешь.
Я ответил в удаляющуюся спину:
– Выходит, я и есть ваш сверхчеловек… в первом эскизе.
Он – ни слова мне больше. И почему люди так не любят со мной спорить? Вот сейчас: разве ж я сказал что-нибудь грубое? Просто куража у меня много, не все выдерживают. А я ведь то, что думаю, вслух не говорю, я обычно выпускаю наружу очень приглаженный вариант.
Он отходит всё дальше и дальше, а я… я сержусь на него, ребята.
Достал он меня своими сверхлюдьми. Бабу бы себе завел, что ли, больше б толку было. Что он нам подсовывает? Зона – хорошо. Зона – эскиз новой жизни. Из Зоны вырастет будущее. Сегодня мутанты – завтра супер-пупер крутые хозяева Земли. А я на это так смотрю: есть нормальная человеческая жизнь. И в нее по-тихому отовсюду вторгаются. Ее хотят переделать, мороза напустить, отобрать ее у нас, в конечном счете. Какой-то поганью нас заменить. И ее, этой нормальной жизни, теперь с каждым годом всё меньше и меньше. А погани всё больше и больше. Труднее стало согреваться, замерзаешь на ходу… Я, ребята, если что, собираюсь тихому вторжению сопротивляться. Сегодня, завтра и каждый день. Где его на чуть-чуть натекло, там и сопротивляться на чуть-чуть, а где уже крайняк, там долбать надо как следует.
Отойти в сторонку и очистить лыжню?
А вот накося выкуси!
Авгиевы конюшни надо чистить, иначе вся жизнь наша станет Авгиевыми конюшнями.
Пора собираться в обратный путь. Иду, бужу Нину, она расстается с матрасом, как со святыней, трепетно и неохотно… Короче, едва оторвал. Сам едва не лег рядом – мне впору спички в глаза вставлять.
Веду вниз, на платформу. Зову остальных.
Путь, по которому поезд когда-то шел в центр города, для нас закрыт. В паре километров отсюда его перегородил «ведьмин студень».
У нас всего два варианта. Первый – подняться наверх и топать по поверхности. Очень хочется так и сделать. Давит на мозги вся эта темень. Мы, люди, – дневные зверушки, нам бы солнышка. Но соваться на проспект Вернадского до крайности рискованно: кто знает, пройдем ли мы еще раз весь тамошний двухкилометровый аномальник без детекторов. Притом, какая густота аномальных объектов от «Проспекта Вернадского» до «Юго-Западной», мы вообще не имеем представления. Свернуть на Ломоносовский проспект, а с него – на Ленинский? Маршрут длиннее, а градус риска – тот же.
– Спускаемся на тот путь, по которому поезда ходили к окраине. Обратно идем через туннель.
Нина горестно вздыхает.
Ну а как еще? Под землей – оптимально. Любое движение заметно издалека. Аномалий здесь меньше. А гробанется кто-нибудь… так это буду я, ведущий. Группа сохранит шанс выбраться.
Толстый наярился было размонтировать «котел света», но я сказал ему:
– Погоди. Минуту!
И щупаю взглядом старую свою знакомую, станцию «Университет», насколько вырывает ее из мрака ровное холодное свечение нашей железяки.
Сколько раз я тут бывал, когда учился на историческом факультете МГУ! Сколько раз поднимался и опускался по эскалатору, сколько раз ждал поезда, сидя на мраморных лавочках!
«Университет» совсем не похож на «Проспект Вернадского» и «Юго-Западную». Те наряжены по́шло, серо, как офисные чиновники средней руки. В унылые пиджаки из грубой толстой ткани. «Университет» строился всего-то несколькими годами ранее, но выглядит совсем иначе. Эта станция… она вроде щеголеватого профессора, преуспевающего ритора и публициста. И тоже на нем пиджак да галстук, но то ли сшиты они лучше, то ли лучше сидят, то ли галстучная заколка лучше подобрана, то ли от самого профессора идет жизнь, энергия, сила, а от чиновников ни рожна не идет, ноль, пустота, – но только «Университет» вызывает почтение, притягивает и покоит, в то время как его собратья по ветке не вызывают никаких чувств.
Тут вовсе нет тупого плоского потолка. Тут нет леса тоненьких колонн. Тут благородный полуциркульный свод. А колонны – мощные, облицованные крупными блоками нежного желтовато-серого мрамора, разделенные вертикальными нишами надвое, и в каждой нише – поблескивающая металлическая решетка. От них значительность исходит, солидность и в то же время какая-то нарядная соразмерность…
Здесь бывает очень хорошо, когда горит полный свет.
Вот как перцы, которые нами верховодят, допустили, что здесь воцарилась такая дрянь? Как они допустили, что вся Москва погрузилась в темную злую дрянь? Как они угробили Великий город?
Москва… О улицы твои, жемчужины древних белых палат, чистое золото дворянских особняков, резная кость доходных домов эпохи модерн! О парки твои, кружево тропинок, липовый цвет да соловьиные песни летом и катки, наполненные веселой суетой по зимней поре! О старые твои переулочки, горочки-низиночки, вышивкой прихотливою, мелодией трехрядочки, метелью тополиной венчающие главу Москвы! О бульвары твои, звенящие пением сирени, жасмина и черемухи, когда катит над ними на солнечной колеснице боярин Лето со своей женой-княгинюшкой! О проспекты твои, ширь ветра, тень небесных дорог! О храмы твои древние, корнями уходящие в землю на пятьсот лет! О монастыри твои честные, узорочьем и святостью украшенные древние якоря города! О вокзалы твои, пропустившие сквозь каменные пальцы половину державы! Где вы? Что с вами? Отчего искалечены вы? Отчего загажены? Отчего лежит на вас тьма? Сколько света было и ничего не сбереглось! Горько нам, пока вам худо! Куда вы ушли от нас? Зачем вы нас оставили? Что сохранилось от вас? Только память, только образ ваш чудесный, заключенный в наших душах!