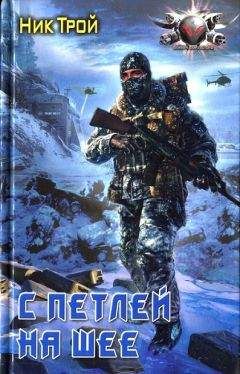Я вдруг вопреки всему ответил:
— Ты Вичку имеешь в виду?
Джексон кивнул, все еще смущенно пробормотал:
— Хантер, прости. Я влез не в свое дело. Если тебе неприятно, не отвечай. Я понимаю.
— Да чего уж там, — махнул рукой я. — Отвечу. Как-никак мы вместе в одной… беде…
Почесав бровь, я протянул озябшие руки к костру. Воспоминания вновь горькой волной хлынули в меня. Перед глазами встало веселое, улыбающееся лицо Вички. Наша квартира в Южном Бутово, что только-только начали обустраивать. Улыбающийся беззубым ртом пухлощекий малыш в колыбели. Я вдруг ощутил томление в груди, затаенную грусть и боль.
— У нас был сын… Женька… Ему тогда только год исполнился… резвый такой малец, весь в меня пошел… но… понимаешь, сначала были месяцы беременности… Потом роды… — слова давались с трудом, но каждое новое слово будто снимало с меня тяжелый груз. Постепенно речь стала более плавной, насыщенной. — В общем, соскучился я за супругой очень. А у меня еще и работа была творческая. Отвлекаться нельзя, да и в тишине работать нужно. Понимаешь, день проходит с нервами. То ребенок заплачет, то еще чего по дому сделать нужно. Жене помочь… Все это мелочи. Я их обоих люблю и с радостью возился с Женькой и помогал Вичке. Но по счетам платить нужно, еду покупать тоже нужно… Родителей у нас обоих в живых не осталось. Помощи никакой нет. Только на себя и можешь рассчитываешь, как на войне… Вот меня и достало все. Расслабиться не получается, работа почти не двигается, тело требует разрядки…
Я замолчал, все ближе и ближе подходя к самому сокровенному. Момент, что навсегда изменил и разрушил наши жизни.
Вздохнув, я продолжил:
— В ту ночь я потребовал переселить сына. Сослался на то, что он мужчина и должен спать один. Детская у нас была, но колыбель постоянно торчала в нашей спальне. А мне нужно хотя бы ночью спокойно выспаться… Да и с супругой при ребенке я не могу… не мог…
Американцы тихонько слушали. Никто даже не пошевелился, никто не вставлял тупых комментариев, никто не хлопал по плечу с утешениями. Будто не тупые вояки-коммандос, а заправские психологи, американцы внимательно слушали.
— Вичка согласилась перенести колыбель… Я, вдохновленный быстрой победой, переселил спящего Женьку. Вернулся в постель к жене… И все было хорошо…
Я неожиданно смутился. Никогда не понимал мужиков и баб, что вдохновенно рассказывают о том, кто кого и в какой позе. Всегда считал, что для любящих сердец, несмотря на все сексуальные революции, должно оставаться место интимности. Чему-то такому, что знаешь только ты и твоя вторая половинка. И плевать на тех самовлюбленных уродов, которые нагло говорят: «Вторая половина?! Я не такой, я здоровым родился, целым. Нерасполовиненным!» Я гордился всегда тем, что жил вместе с девушкой, что всегда стремилась к совершенству и саморазвитию. С девушкой, которая смотрела всегда со мной в одну сторону…
Я судорожно вздохнул, пытаясь продолжить, пока горло еще до конца схвачено судорогой чувств:
— В эту ночь началась Катастрофа. Глубокой ночью дом начало трясти, а жили мы в хлипкой панельной девятиэтажке… Будто ножницами отрезало… Половина дома рухнула, полностью превратившись в бетонный хлам. И никто там не выжил… А я как дурак стоял на краю пропасти, что начиналась сразу за порогом нашей спальни и смотрел в темноту. Туда, куда рухнула детская… Где пропал Женька…
Горло сдавил спазм, в груди быстро разгорался пожар, но душа как будто освободилась. На глаза навернулись слезы, но я прокашлялся и закончил:
— Я не сразу заметил изменения в ней… Только уже при жизни в Гарнизоне. Почти через полгода после начала Катастрофы… Что-то в ней сломалось… Стала заговариваться, нести какую-то чушь. Появилась бессонница, спит по три-четыре часа в неделю. Да и то с кошмарами… Вичка возомнила, будто это я виновен в смерти сына… И, наверное, отчасти она права…
Я замолчал. Ком в горле никуда не пропал, и дышать стало тяжело. Обычно после этих воспоминаний, как было все три года, мне хотелось застрелиться. Даже во сне я пускал себе пулю в лоб. Суицид стал моей навязчивой идеей… Но сейчас я готов был расплакаться. Впервые я не хотел смерти… Но легче от этого не стало. Все вернется, как только я вновь вспомню окружающую действительность. Вспомню слова Вички, вспомню тварей и груз ответственности на плечах…
— Да брось ты, хантер, — тихо, но твердо подал голос Джеймс. — Не виноват ты ни в чем. Не мог ты даже подумать о том, что может произойти. Не вини себя зря… да и супруга твоя тоже не виновата… Жизнь такая тварная… Нужно искать выход и идти к нему. Не терзайся…
Удивительно, но после этих слов коммандос (пиндосы, американцы!) вдруг стали ближе. Никаких утешений и соболезнований. Простые слова правды…
Я ехидно усмехнулся, скрывая благодарность и слезы на глазах. С неприкрытым сарказмом буркнул:
— Вот уж не ожидал от американцев такой чувственности.
Дэйсон удивленно поднял бровь, спросил:
— По-твоему, мы автоматы?
— Да нет, просто… — замялся я, но понял, что действительно ляпнул глупость. — Извините, ребята. Нагрубил я по-хамски. Нервы…
— Вы, русские, всегда испытывали нездоровую ненависть к американцам, — обличающе произнес Скэндел. — Прямо дьяволов из нас делаете.
— Скэн, прекрати, — шикнул Джеймс.
Но я уже принял вызов и криво усмехнулся, согласно покивал.
— Ага, будто вы, янки, обожаете русских.
— Но неприязни не испытываем!
— Неприязни? — удивленно поднял брови я. Потом безмятежно добавил, соглашаясь: — Конечно, не испытываете. Особенно в фильмах и компьютерных играх, вволю настреляв русских. Какая тут уж неприязнь?
Джексон уязвлено замолчал, почесал горбинку на носу, но крыть было нечем. За него вступился Джеймс.
— То было после войны, Константин. Наши государства заставляли нас ненавидеть друг друга.
Я кивнул, подбадривая. С благодушной горечью сказал:
— Заставляли. Иначе не было бы национальной идеи. Что коммунизм — дохлая крыса, что дерьмократия — расписанная под хохлому шлюха. Потому и пытались друг друга убедить, что правы мы, а не вы.
Дэйсон озадаченно посмотрел на товарища, видимо до конца не понял смысл моих слов. Но ободренный миролюбивым тоном бодро сказал:
— Но ведь после развала Советского Союза мы больше не враждуем?
— Враждовали, — кисло поправил я, с дурной педантичностью не оканчивая спор. Затевать демагогию на тему отношений двух сверхимперий, одна из которых давно почила под могильной плитой истории и даже старики в буденовках все реже и реже ее вспоминают, не хотелось. Кажется, что все это бренно… нет, бренно — слишком пафосно. Так же, как и разговор о «миру — мир» во время Армагеддона. Скорее — глупо!