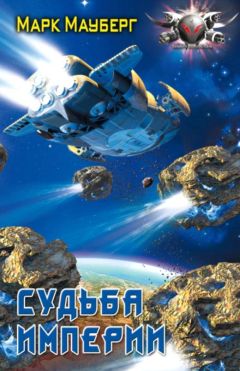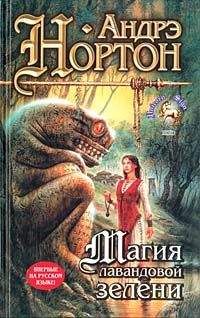Хитроумные электронные системы лечения, в просторечии «кибердоктора», прекрасно справлялись с лечением и сами. Но человеческий контроль никто не отменял. Вот вроде бы зачем нужен в этом мире врач? Электроника прекрасно справляется практически с любыми травмами или заболеваниями, сшивая за секунды разорванные сосуды и ниточки нервов, вводя выверенные дозы антибиотиков и противошоковых средств, дробя камни в почках и ставя мгновенные диагнозы на основе молекулярного анализа. Человек-то тут зачем?
Любопытный Харченко еще на этапе их реабилитации выяснил, что, оказывается, конечный успех лечения основывается не только на правильном диагнозе и успешной терапии или хирургии, но и на общении живого доктора и пациента. Кроме того, и электронные схемы и сверхбыстрые процессоры могут ошибаться. Да и не все виды операций можно доверить кибердоку, есть и такие, с которыми могут справиться только живые и чуткие руки хирурга-человека.
Вот еще и потому пристроили бывших ездовых санитарами. Чтобы ходили с вечно недовольным видом и беззлобно ворчали на раненых (а где вы видели трезвого довольного санитара?). А еще к этому же делу пристроили некоторых девочек из добровольцев. Наиболее симпатичных, разумеется. Любой мужик прекрасно знает, как повышается, кхм, тонус при виде юной девчонки в коротеньком белом халате. Никакой кибердок не способен достичь такого эффекта. Правда с халатами вышла промашка, ходили медсестрички в стандартных комбинезонах, правда, подобранных по фигуре и подчеркивающих все природные прелести.
– Слухаю вас, тавырышы маёры! – пожилой сержант лениво приподнялся со стула. Любой входящий в санитарный отсек становился потенциальным пациентом перед лицом медицинских небожителей. Хоть ты начальник особого отдела, хоть генерал армии, а задницы у всех одинаковые. Клизмы и уколы делают, невзирая на размер звезд и ширину лампасов.
– Товарищ сержант, мы с визитом к раненым. Пригласите начальника госпиталя.
– Не можно. Он на операции, лоботомию робыт. То исть, эту, як ее? Тры… Трыппырнацию.
– Чего? – засмеялся Харченко. – Какую еще триппер-нацию?
Крупенников же ухмыльнулся:
– Трепанацию, наверное?
– А я шо казав? Трыппырнация й казав!
– Ну, пусть делает. Тогда мы к раненым зайдем.
– Не можно! – вдруг уперся сержант. – Не можно, таварышы командиры! Без приказа таварыша Крупэнникова – не можу. Нияк Запретыв вин.
– Кого? – удивился комбат. – Так вот же я, перед тобой, чудак-человек! Так что, приказываю…
– Ни, – отмахнулся сержант. – Я ж не про вас говорю, а про иншого Крупэнникова.
Майор захлопал глазами, затем медленно повернулся к Харченко. Особист мучительно покраснел.
– Виталь, я хотел сказать…
– Он здесь?
– Ну… да! Не, ну а что я мог сделать? Парень – врач! Хирург! Опытный, со стажем. Сам попросился с нами лететь. Я что мог сделать? Врачей нормальных нам не хватало. А этот еще и с оружием по своей планете скакал, в ополчении был! Виталик! Ну, не смотри ты на меня так! Я хотел тебе сказать, честное слово хотел, но думал потом, когда все закончится… Да помню я про твой приказ, помню. Можешь наказать после победы. Но не остался б он на Земле, понимаешь? Потому что он – правильный мужик, настоящий Крупенников…
Усатый сержант растерянно вертел головой, не понимая, что происходит.
Зашипела открывающаяся дверь, и в приемный покой стремительно вошел человек в зеленом одноразовом халате поверх хирургической пижамы. Кивнул сержанту:
– Иванова – в реанимационный киберблок, прямо сейчас. А вы, товарищи командиры, по какому вопросу?
И стянул с лица маску.
Харченко сделал шаг к стене.
Прямо перед ним стояли два удивительно похожих мужика.
Слева – майор Виталий Крупенников, командир офицерского штурмового батальона, командующий Добровольческим корпусом, а фактически – Главнокомандующий всеми имеющимися в наличии вооруженными силами Эйкумены.
Справа – врач-хирург, вернее, военврач-хирург Вик Крупенников, бог и царь госпиталя, сиречь, медсанбата.
Но как же они похожи-то…
Нет, на первый взгляд, они совершенно разные. Харченко не раз видел потомка комбата еще на Земле, и никакой особенно бросающейся в глаза схожести не отметил. Безусловно, есть нечто общее, этого начальник особого отдела просто не мог сугубо профессионально не отметить, но…
Доктор выше ростом и шире в плечах – сказались на майоре голодные двадцатые. Майор с проблесками седины на темных висках, а Вик русоволосый. У майора нос горбинкой, а у врача разрез глаз слегка восточный. Но вот смотришь со стороны на обоих сразу и понимаешь: похожи! Чем-то неуловимым похожи. Так бывают похожи отцы и дети, деды и внуки. Так похожи братья.
– Товарищ майор? – первым заговорил доктор.
Тот кивнул в ответ.
– Ординарца вашего мы прооперировали, угрозы для жизни нет, но видеться с ним пока… – голос доктора постепенно становился все тише и тише.
– Ну, здравствуй… внук…
Харченко незаметно махнул рукой санитару – «смылся, мол, отсюда!». Сержант этот жест, как ни странно, понял и тихо ускользнул из комнаты, тем более, что именно это ему и приказал врач.
– Здравствуй… дед…
Харченко тоже незаметно покинул помещение, оставив Крупенниковых наедине. Мало ли дел у начальника особого отдела может быть? Заговор какой раскрыть или очередной альбом «Dire Straits» послушать? Или просто поспать…
А Виталий и Вик Крупенниковы заперлись в каюте у врача – младший Крупенников как раз сменился, проведенная им трепанация была последней операцией на сегодня – и проговорили почти до самого утра. О чем могут разговаривать предок и потомок, между которыми пролегла пропасть в сотни лет? Да неважно о чем. Обо всем сразу. Или ни о чем. Главное – просто разговаривать, главное – просто слышать голос друг друга…
– Вот и поехали мы как-то летом в колхоз. Шефская работа. Колхоз? Ну… это как у вас земледельческие хозяйства, только в коллективном пользовании. Не заморачивайся, короче. А школьников тогда специально вывозили из городов в деревни. Чтобы, трудясь руками, цену хлебу знали, а заодно и на природе отдыхали. А мы с товарищем при них вожатыми, значится.
Вот на первых танцах я ее и встретил. Честное слово, я до этого девчонок боялся, да и танцевать толком не умел. Да и не было у меня еще никого… А Сашка Акимов, второй вожатый наш, патефон с собой взял, с пластинками. Знаешь, что такое патефон? Не знаешь? Ладно, потом расскажу. Ну, вот, деревенские мне тогда нос и сломали вечером, чтобы к их девчонкам не клеился. А я ее как увидел, так внутри все и рухнуло. Глаз с нее не сводил весь вечер, а потом решился и на танец пригласил. Как осмелился? «В парке Чаир распускаются розы…» заиграли. Слышал такую? Потом послушаешь, она в корабельном инфоцентре должна быть. А тогда знаешь, как танцевали? На расстоянии вытянутой руки. Прижаться – не моги, пощечина, как минимум. Танцуем, значит, а я от нее глаз отвести не могу. А она на меня не смотрит – руки на плечи мне положила, а сама в пол глядит. И губы свои покусывает. Сколько ей лет тогда было, понятия не имею. Потом косой своей махнула и убежала, а коса у нее была… Аж до… До поясницы, в общем. Утром мы на работу вышли, на сенокос. Вожатые да ребятня наша. Нас, городских, к косьбе не подпускали, мы просохшее сено в скирды метали. Скирда, это такая… Тоже не важно. А на деревне скирдованием всегда девки занимались. Вот идем мы, значит, нос у меня опухший да фингал под глазом. Красота, одним словом… Да и у пацанов моих тоже морды порядочно разукрашены. Местные, правда, без гостинцев тоже не остались. Метаем, значит, а девки над нами смеются. А она не смеется. Глазами только иногда – раз-раз! Как снайпер. Когда жара началась – перекур. Девки купаться побежали. Потом наша очередь, а меня как толкает что-то. Я кустами, кустами – и за девками. Лежу, смотрю… Стыдно – аж жуть. Если кто вожатого за таким делом застукает – все. Но все равно лежу. Слепни меня кусают, а шевельнуться не могу, боюсь себя обнаружить. Дышать забыл, когда ее без исподнего увидел. И с того дня вообще ничего больше не видел – только она одна перед глазами – и все тут. Как-то вечером пацанов спать уложил, с Сашкой договорился и пошел снова на пруд, на то место, где подглядывал за ней. Сижу, на воду смотрю. А теплынь в том июле была… Сижу и думаю. Без нее и свет не мил, а подойти к ней – не знаю как Говоришь, в любви надо было признаться? А как? Мы слово «любовь» только в книжках умели читать. А вслух просто так сказать – ты что, внук, не моги! Дорогое очень слово. А слова – они что монеты, стираются за частым употреблением. Вот и вздумал я искупаться. Разделся и прыгнул. Вода такая теплая… молоко парное и то холоднее. Ты парное молоко-то пробовал? Ну, ничего, попробуешь еще. Лег на спину и на небо смотрю. Лежал так, лежал. Небо уже темнеет, звезды надо мной. Вот думал ли я, что на этих самых звездах побываю? Эх, ладно… Выхожу, значит, из воды, а она рядом с одеждой моей сидит. Сидит и на меня смотрит. Молча. И смотрит так… Серьезно, в общем, смотрит. Не улыбаясь. А я стою по пояс в воде и смотрю на нее. Мерзну уже, а она все сидит и сидит. Ну, выхожу я, в конце концов. Руки сложил, сам знаешь где, вышел. И она встала. Стою я голый, она в каком-то сарафанчике. И в глаза друг другу смотрим. Очнулся я уже потом только, когда никакого сарафанчика на ней и в помине не было. И слова друг другу не сказали, просто… не знаю, как объяснить… Вцепились друг в друга. Всю неделю вечерами на берег бегали – она из дома, я из школы. Мы в деревенской школе ночевали. Вот ребятишек уложу – и к пруду. А днем будто и незнакомы друг с другом. Глазами встретиться боялись. Зато ночами налюбиться и наговориться не могли. Да только в деревне ничего не укроешь, все на виду. Нравы тогда, ох, строгие были. Ее отец к родственникам в другое село услал, а меня… Меня в город отправили. Спасибо, хоть просто так отправили, а ведь могли одним словом всю жизнь поломать. Из комсомола б уж точно турнули, а куда мне дальше с таким пятном на биографии? Я ей успел пообещать, что вернусь за ней, что, мол, поженимся. Да только на следующий год война случилась. А колхоз тот на Смоленщине был. Знаешь, где это? Вик, тебе сколько лет?