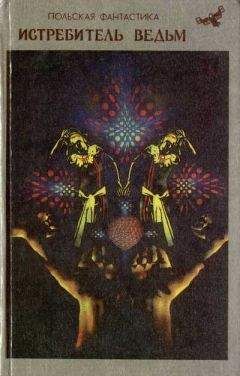За окном была ночь, и с первой порцией коньяка дружелюбной осою она вошла в воспаленный и неуверенный мозг Неглина.
Стажер старался поймать взгляд комиссара, он хотел сообразить, как ему лучше действовать. Если бы во взгляде комиссара он прочитал: «уходи», он извинился бы и вышел немедленно, но Неглин не мог поймать взгляд комиссара, а когда глаза их все же встречались, молодой человек не мог прочитать в них ничего, кроме ехидства и довольства.
Георгий разлил еще коньяк по стаканам.
— Однажды… — начал он.
— Ну, за меня, короче, — перебил того Кот.
Все засмеялись и выпили снова. Неглин захмелел и потянулся к еде; он думал, что если съест сейчас что-то, так непременно протрезвеет или хотя бы не будет больше пьянеть. Если это испытание ему, так он обязательно выдержит, сказал себе Неглин. Меж тем старшие товарищи его лишь отпили понемногу, и отставили стаканы, пригубили, словом. А Неглин этого не заметил, пожалуй. Еще только один Ганзлий выпил почти наравне с Неглиным.
— Ешь, ешь, — одобрил его генерал и обнял молодого человека за шею. — Дома-то как?
— У него две сестры, и еще отец парализованный лежит, — ответил Георгий, знавший домашние обстоятельства Неглина.
Кот вздохнул. У всех свои обстоятельства, мол; да и кому сейчас хорошо, слышалось в его вздохе.
— Да ты ремень-то распусти, распусти, — сказал Неглину генерал. — Что ты сидишь перед нами зажатый?
Генерал сам распустил портупею стажера.
— Да нет, я ничего, — пробормотал стажер.
— А смущается-то, смущается! — хохотнул грузин.
— Нет, Неглин не трус, — говорил комиссар, снова блеснув очками.
— Как девушка!..
— А никто и не говорит, что трус, — похвалил молодого человека генерал. — Налейте ему еще, я хочу с ним выпить.
— Он не девушка, он мужчина.
— Никто и не спорит.
На сей раз сам комиссар налил Неглину коньяк и даже подал стакан.
— Я для тебя сейчас не генерал, парень, а просто твой друг, — говорил Ганзлий. — Здесь все — твои друзья.
— Натурально, — сказал Авелидзе. — Неглин знает.
Комиссар головою кивнул. Генерал повис, буквально, на шее Неглина, ударил своим стаканом по стакану Неглина, подождал, покуда тот выпьет, отпил сам из стакана и вдруг поцеловал стажера в щеку.
Неглин засмеялся, сам не знал отчего — засмеялся; Кот криво усмехнулся, Авелидзе смотрел на стажера с жадностью.
— Так и куются молодые офицерские кадры, — сказал Ганзлий.
— На благо несчастного отечества, — сказал Кот.
— Почему это?.. — спросил Ганзлий, но не стал договаривать, впрочем.
— Неглин, так ты понял, что здесь только твои друзья? — спросил Георгий.
Тот хотел ответить, но уже не мог, хотя мыслил он еще точно, как ему показалось, ну или хотя бы приблизительно, но на меньшее он не был согласен. Чтобы он, Неглин, не мыслил?.. Это невозможно!..
— А он наш? — спросил Ганзлий.
— Будет наш, — сказал Кот.
— Когда? — спросил генерал.
— По первому вашему приказанию, — корректно отвечал комиссар.
— А по приказанию не надо. Надо по влечению и убеждению, — с нетрезвою рассудительностью возразил Ганзлий.
— Аппетит приходит во время еды, — сказал Авелидзе.
— Неглин, пей еще, — сказал Кот и помахал рукой у него перед лицом.
— Нет, — хотел было сказать Неглин, но вышел только свист или сипенье, и сам своего ответа не разобрал он.
Врач меж тем стянул с него портупею и уже расстегивал китель.
— Тело должно дышать. Тело должно дышать, — повторял Георгий. — Это я как врач говорю. Ох, хорошая штука — молодость!..
— Дайте ему еще коньяка, — сказал Ганзлий.
Кот поднес свой стакан к губам Неглина, тот хотел еще отказаться, но потом засмеялся и нарочно выпил. Он все теперь будет делать нарочно; пускай ему только помешают что-нибудь сделать нарочно!.. Никто ему не помешает!..
Георгий уж расстегивал брюки Неглина, рука его шарила где бы, может, и не надо было шарить, это было забавно, нет, черт побери, это было просто смешно! Только смеяться он уже не мог, хотел, но не мог. Впрочем, и хотел ли? Силы уже не было, но сознание еще оставалось.
— Ну как? — нетерпеливо спросил генерал. Он вспотел, смотрел на стажера, и жадно губами причмокивал.
— Прошу вас, — сказал комиссар.
— После вас, комиссар, — возразил Ганзлий.
— Как можно!.. — возразил Кот. — Право первой ночи.
— Пускай Георгий!.. Он специалист.
— Он уже со стула валится, — сказал Георгий.
— А мы подержим, — сказал комиссар.
— И посмотрим, — сказал генерал.
Втроем они подняли Неглина и стали его раздевать.
— А какое сложение-то!.. Какое сложение!..
— Да, замечательно!..
— Великолепно!..
— Эта его рана ничуть его не портит.
— Так даже благороднее.
— А кто его перевязывал? Нет, а кто его перевязывал?
— Ты, ты перевязывал! Давай же!..
— Так!..
— Так!..
— Отлично!..
— Чудо! Просто чудо!
— Та-ак!..
— Держите!.. — простонал Георгий.
— Да, держим, держим!.. Не бойся!..
— А дверь-то заперли?
— Да заперли!.. Заперли!..
— Вот! Вот! Замечательно!..
Авелидзе сопел, прилаживаясь. У генерала слюна потекла по щеке, но он не стал ее утирать. Очки комиссара затуманились.
— Вырывается, вырывается!..
— Не вырвется!..
— Просто падает!..
— Георгий просто молодец!
— Да, настоящий мастер!..
— Праздник!.. Действительно — праздник!..
— Такой юный!.. Такой красивый!..
— Вот за что я люблю нашу службу!..
Это было долго; что было долго? все было долго, и сама его жизнь молодая была долгой; быть может, она заплутала, его жизнь, пошла не по той дороге; а по какой должна идти дороге — кто бы сказал!.. Само существование его было будто без какого-то главного нерва, нерв его ослабел, нерв его истончился!..
И ночь была будто с перевязанною скулой, если это вообще была ночь, но, может быть, это была толстая противная черная баба, от которой не находилось спасения. Разряжением его втянуло в глухие тошнотворные переулки, и на глазах там рождались нефть и торф, и иные ископаемые, бесполезные и безрадостные, и все грязнили и бесчестили его неописуемую пошатнувшуюся веру. О чем это все? Зачем это все? Он не знал. Где он теперь? Как он здесь оказался? Он не помнил. И был туман, едкий, безобразный, прихотливый и привычный, голову он поднял в прокуренном кабинете, в котором плыли все предметы, все лица и вся мебель. Почему он был гол, как младенец, — это еще возможно было понять: он теперь и есть младенец в их нынешней полоумной нечистой субординации. Вокруг него были вовсе не люди, вокруг были чужане или отчуждяне, он и сам был таковым тоже, или он всего лишь отвращенец, и это тоже возможно. Все возможно, и невозможен лишь он, здесь и теперь. Невозможен лишь Неглин. Но вот почему он был бос? Под ногами у него были осколки стекла, рядом разбит был стакан, из которого пили недавно; и вот ступня, и пальцы его, и колени в крови, невозможно пошевелиться без боли. Неужто так будет всегда? Но нет, это непорядок, пробормотал себе Неглин. Стараясь засмеяться, бормотал себе он.