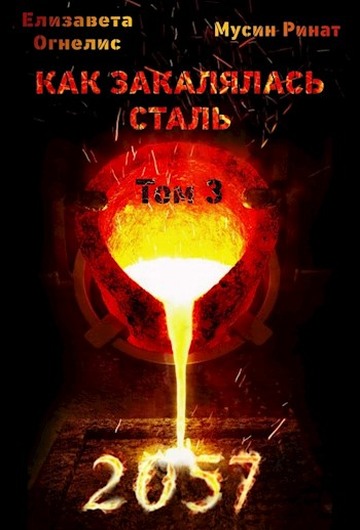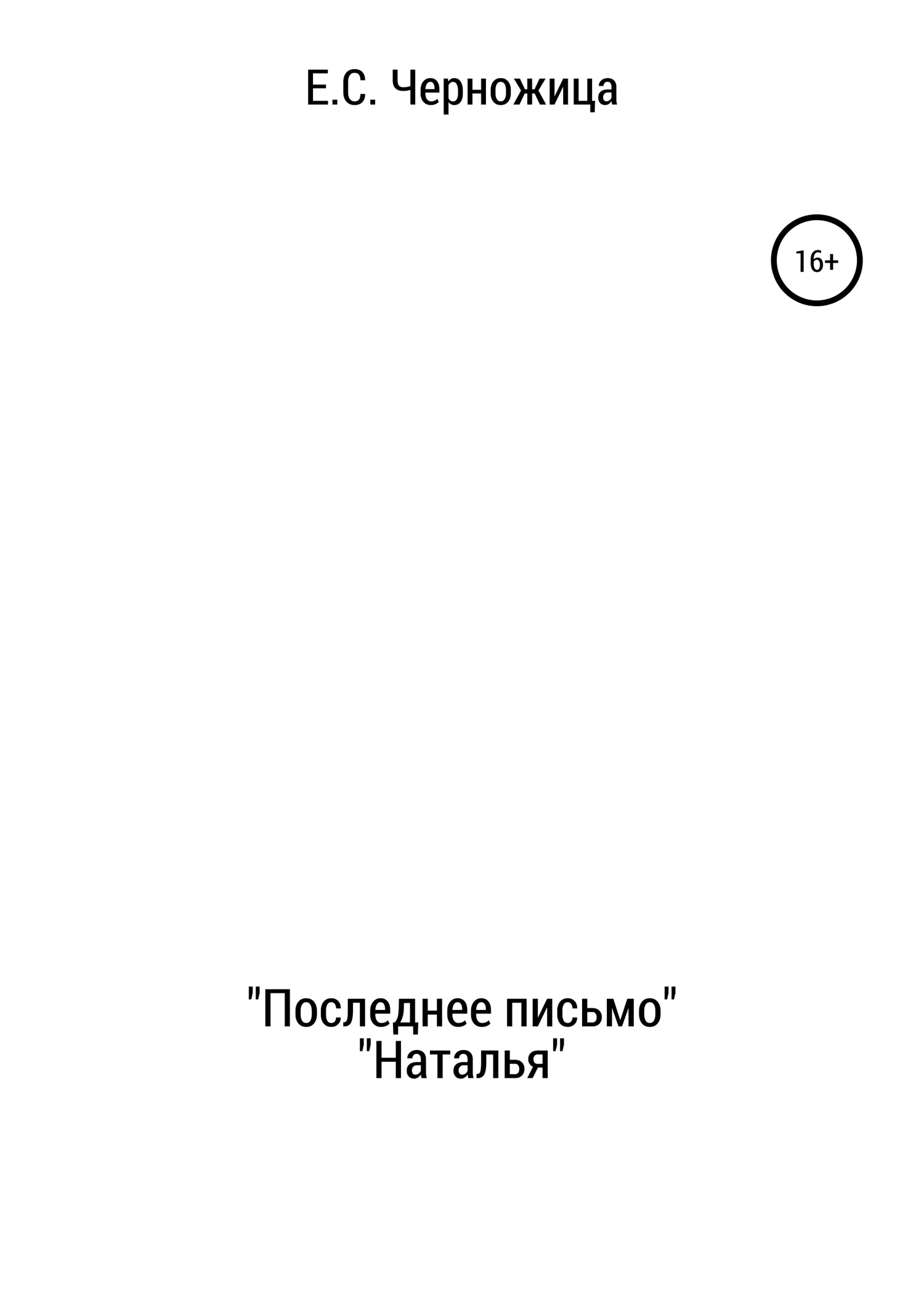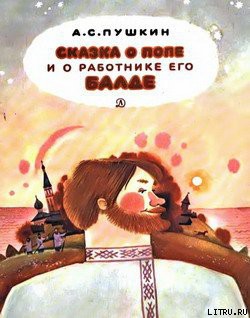опасные на свете, но победили не они. Это пьянящее торжество, не передать словами чувство, которое испытываешь над поверженным врагом. Главное — чтобы враг был очень сильным. Александр помнил, как ему было жаль вот таких же маленьких пацанов, когда на соревнованиях по вольной борьбе, они, четырнадцатилетние, выходили против него, шестнадцатилетнего. Два года разницы — это очень много по мальчишечьим меркам. Слабосильные соперники прыгали на него, а он, а подтверждение своего разряда, валил их, делал что хотел, многие даже плакали. Зато как приятно было схватится с настоящим соперником — и победить, как сейчас, ценой крови и невероятных усилий.
Скоро руки, пальцы и отбитые мышцы распухнут, невозможно будет поднять меч снова. Надо действовать, пока еще можно шевелится. Со слезами боли Саша разрезал на ближайшем пацаненке одежду, тряпками примотал оружие к левой кисти. Потом вырезал из самого толстого две полоски мяса. На цементном столе нашлась пачка поваренной соли — Мастиф понимал, зачем пацанам ее выдают. Отбил рукоятью меча две жесткие полоски, круто посолил и съел. Много дней позади, на пустой каше, на тухлой капусте — а впереди еще бой, страшный, неравный, господи, найти бы гада, который за все это отвечает. О нет, Мастиф бы не распял его — это слишком мягкая кара. Лучше всего — ломать кости, Наиль не раз говорил, что это странно — кости не нервы, самые крепкие части в организме, а сломаешь одну, потом постучишь по ней еще раз молоточком — и человек уже понимает, что выхода нет, надо кричать. Ни одного Мальчиша-Кибальчиша не нашел злой татарин. Все ломались, никто не выдерживал. И счет шел не на часы, но на минуты. Но уж Мастиф бы свой счет вел на дни, действовал осторожно, кияночкой, никаких клещей, никаких гвоздей, никакой крови. Он бы заставил Его кричать, молить о пощаде или смерти. Но даже этой боли не хватило бы.
Шансы? Шансы есть. Можно не вскрывать дверь, а прорезать проходы к соседям, его оружие может распластать и сталь… Маленькое восстание, и Саша будет ковылять в последних рядах, его бросят — как только выйдут за ворота… Но надо будет объяснить будущим соратникам, что свобода — это не пространство за бетонными стенами. Свобода — это когда автоматчики не сидят, а висят вверх тормашками на вышках, когда надзирателям лежат с выколотыми глазами в карцере, а лучше всего — сделать из молодых сосенок острые колы, вбить в землю, круто посолить острия (так, для смеху больше), снять штаны и посадить мягкими задницами, только осторожно, чтобы кишки прорвались, но печень и сердце трогать нельзя, это точно. Но они, те, кто рядом, не понимают этого. Казалось, что только в тюрьме можно найти настоящих людей, что они не боятся заявлять, что любят свободу и готовы сделать ради нее все, что угодно… Казалось бы, они, темные и забитые, единственные свободные люди-человеки, презирающие закон, презирающие рабство, презирающие всех нас, одновременно презирающие труд и работу… Вместо одного закона они создают себе другой, куда более жесткий, с правилами и уставами, за нарушение которых — жестокая смерть. Разве так можно? Разве это правильно? Разве это борьба? Это соплежуйство, гниды они, а не люди, паразиты на паразитах, не по пути с ними Мастифу, нет, не по пути…
Он пройдет свой путь один, от начала до конца, лишь бы руки не подвели. И как паскудно, что после смерти кто-то поднимет с земли честную сталь, и меч, созданный Полеславом специально для него, для Мастифа, попадет к идиоту и сволочи…
Кажется, ему послышалось… Неужели он наяву слышит голоса?
— Сашка! — орал могучий бас, словно дух Шаляпина решил почтить вниманием их тюрьму. Александр вскочил, перекосился от боли.
— Сашка! Смирнов! — орал во всю мощь двенадцатилитровых легких Шпак, богатырь, трудяга, лучший друг.
— Я здесь! Серега! Я иду, — проскрипел Александр. Кряхтя, он вырезал дверь, навалился, чтобы клепанная сталь вывалилась наружу.
— Санька!
— Серега!
— Держись, дружище, я тебя счас вытащу… Отойди, разнесу гадов к матери…
Решетка распахнулась, Серега подхватил окровавленное тело на руки, понес. Их отход прикрывала Ень. Сашка был близок к обмороку, но все равно заметил, как хищно горят глаза китаянки, как умело она обращается с оружием. Настоящая богиня войны, не такая уж и хрупкая, больше гибкая, стремительная, форма на ней сидит просто ошеломительно… лучшая подруга настоящего воина.
Свежий воздух опьянил, Александр от боли не понимал — снится ему, или все наяву, во дворе во все стороны палят «волкодавы», с вышек и стен огрызаются, но вяло — видимо, Шпак перед атакой «снял» всех, кого только мог. Молодец, умница, его бы в пару с Наилем — цены бы не было такой парочке.
— Я тебя вытащу, — гудел Шпак, стреляя с одной руки, перебросив Мастифа через локоть другой — как тряпку.
Ворота уже близко, как их вскрыли? Смешно, но Саше вдруг подумалось, что Шпак выбил их плечом… Искореженное железо под ногами, треск выстрелов все злее, пули не свистят — смерть не слышно за таким шумом. Один из «псов», Гиви-Боксер, словно споткнулся неудачно, а потом — повалился. Второй, Коля-Колли — развернулся, опустился на колено, сталь уже рвала ему живот, летели клочья, но он продолжал стрелять, еще секунду, пока в рожке не кончились патроны. Саша почувствовал, что падает, Шпак тоже запнулся, слон неуклюжий, упал на колени, захрипел, уронил друга на бетон.
— Сер-рей! — с отчаянием закричала Ень, и Мастиф понял, что все, надо вставать, идти самому, иначе — останешься здесь ни за понюшку.
— Еня! — Александр сначала хотел, чтобы она помогла, но потом передумал.
— Еня! — рявкнул Мастиф. — Прикрой Шпака! Убей их!
— Сер-рей! — кричала китаянка, подставив узкое плечо, словно прикрываясь обмякшим телом, а на самом деле пытаясь поднять полтора центнера неподъемного тела, невероятную тягу, и пули каждую секунду прибавляли гиганту в весе…
Даже сквозь шум и грохот слышен голос Шпака:
— Сашку мою… дочку… снайпер, — выплевывает богатырь слова вместе с кровью. — Из-за тебя… козла… я тебя… Девок береги… Беги… Сашка, я прикрою…
Мастиф сжал зубы. Обязан выжить, чтобы не случилось! До грузовика метров пятьдесят, навстречу бежит Леша-Полкан, Еня уже не пытается поднять любимого, молча строчит, выбирает секунды для спасения, потом тихо падает рядом. В черных волосах — осколки разбитого арбуза, Полкан тащит Мастифа, треск почти утих, только где-то буйствует огонь, и ревет старый надежный двигатель.
— На живом все заживет! — кричит Полкан, и Мастиф кивает. Заживет, как на собаке заживет…