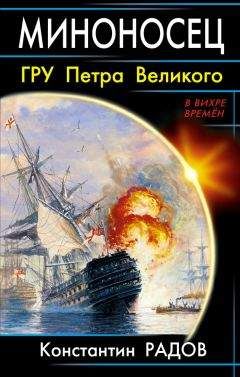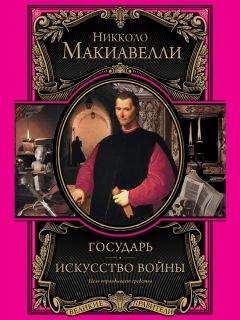В юные годы история венецианско-генуэзского соперничества на востоке вызывала у меня самый живой интерес, только изложение ее в книгах зияло многочисленными пробелами. Иван Михайлович не оправдал надежд относительно фамильных преданий, способных оные заполнить, однако мысль о наследственном праве Головиных на вотчины и титулы предков пришлась ему по душе. С точки зрения государственной можно вообразить некую пользу от подобной претензии: заявить свои права перед Европой либо увлечь приманкой собственного княжества крымских греков, обнаруживающих полное равнодушие к переходу из султанского подданства в царское. Была у меня еще одна мысль сходного плана: найти подходящего чингизида из русских дворян для ведения дел с ногаями на крымской границе.
Обер-сарвайерская должность, в исполнении моего нового приятеля, ограничивалась тем, что при закладке нового корабля он забивал первый гвоздь и мазал киль дегтем. От дальнейших экзерциций в плотницком ремесле Иван Михайлович благоразумно уклонялся, трезво сознавая, что руками ничего путного сделать не способен. Зато ему дети удались. Два сына во флотской службе и трое дочерей на выданье, все – красавицы. Бывая у Головина, я чувствовал возвращение талантов, кои считал давно утраченными. Девятнадцатилетняя Оленька часами готова была слушать о Европе, томно вздыхая от впечатлений:
– Ах, Александр Иванович! Расскажите еще о Венеции, а то батюшку никак не упросишь!
Впечатления батюшки, закрученные вокруг злачных мест и девиц известного сорта, не слишком подходили для пересказа юной дочери. Во мне же пробудилось красноречие, как в далеком детстве, когда соседские сорванцы, разинувши рты, внимали приключениям героев древности в очень вольном переложении. Умолчание – не ложь. Кто посмеет бросить упрек, что я ни словом не помянул обшарпанные трущобы Каннареджо? Serenissima вставала из волн парадным фасадом, как перед путешественником, прибывающим с моря, где открываются ему беломраморное величие дворца Дожей и каменные кружева Сан-Марко.
От венецианской лагуны воображение птицей уносило нас дальше: то к мрачным берегам Африки, то в парадную залу Хофбургского дворца, то в блещущий остроумием салон мадам Тансен. Но удалось ли мне тронуть сердце слушательницы? Ей-богу, иногда жаль становилось, что я не гвардейский прапорщик во цвете юности, с румянцем на круглых ребяческих щеках! Это для генерала сорок лет – не возраст, а для воздыхателя молоденькой девушки, пожалуй, что и многовато…
По первоначальному плану я собирался искать руки не Оленьки Головиной, но Анны Голицыной, на стороне которой были все преимущества: род княжеский, а не боярский, князь Михаил Михайлович в должности тестя… Однако чем дальше, тем больше сомнений терзало мою душу, побуждая к перемене намерений. Заблуждаются те, кто в брачных делах противопоставляет любовь расчету, ибо любовь тоже необходимо принимать в расчет, и даже приоритетно перед всеми прочими элементами. Только при этом условии расчет будет правильным, а супружество – счастливым. Мне представлялось разумным посещать оба семейства (и еще несколько других), не обнаруживая своих тайных целей до той поры, пока смогу определиться с выбором.
Еще одна – пожалуй что, главная – причина неторопливости состояла в желании понравиться будущей невесте, прежде чем приступать к сватовству. Родительская власть в России достаточно крепка, чтобы отец мог выдать дочь замуж по своему выбору, но подобное принуждение неуместно: жена всегда найдет способ отомстить нелюбимому мужу. А если нужна верная помощница, способная вести дела, к которым у меня талантов недостаточно (скажем, изощренную тайную дипломатию в придворных кругах), с ней тем более нельзя обращаться как с вещью. Русские девушки стали иными, нежели полтора десятилетия назад, когда я впервые прибыл в Петербург: теремных затворниц, запертых в родительском доме, как в магометанском гареме, прямо на глазах сменила новая поросль. Богатые люди не щадят издержек на домашних учителей; дочери царских придворных едва ли уступят парижанкам в образованности. Они твердой поступью выходят в свет, готовые сражаться за свое счастье.
Каждый соблазняет, чем может. Бывая у Головина, я распускал свой ум павлиньим хвостом, стараясь показать его во всем блеске. Кстати, женщин, которые идут на эту приманку, не так мало, как обыкновенно считают. В юности мне это было неизвестно. Теперь любые, едва заметные признаки успеха наполняли сердце живейшей радостью. Улыбка, обращенная мне навстречу, бывала чуть лучезарней, слова приветствия – чуть любезнее, чем подобают отцовскому приятелю и другу семьи. В свою очередь приготовленные мною для застольной беседы сюжеты из европейской жизни плавно переходили от политики к нравам, непринужденно балансируя на грани дозволенного, когда касались амурных приключений французских аристократов. Кто усомнился бы, что рассказчик – плоть от плоти сего изящного и легкомысленного мира? Еле уловимые бесенята, мелькающие порой в тихих омутах прекрасных глаз Оленьки, наводили на мысль, что, при всем благонравии, мечты о радостях любви ей не чужды, и чем черт не шутит – почему бы не занять в этих грезах главное место?!
Разумеется, томление сердца не обошлось без ущерба для моих многочисленных дел. Древние посмеялись на славу, поженив Афродиту с Гефестом, ибо нет стихий более враждебных друг другу, чем любовь и труд. Ars amandi – удел праздных сословий и предвестие гибели государства от варваров: грубые труженики и суровые воины рано или поздно низвергнут изнеженных сибаритов, предающихся утонченным наслаждениям. Так случалось много раз, в древнее и новое время, так будет повторяться впредь. Может быть, христиане обязаны своим превосходством над иными народами именно противоестественной вражде церкви к плотским утехам: подобным образом запруда, преграждающая природное течение реки, позволяет употребить ее силу на нужды, не предусмотренные Создателем. Вот только судьба прекрасной Франции меня тревожит: не знаю, откуда возьмутся варвары, которые погубят ее – но погубят несомненно. Французы давно могли бы править миром, если б не пытались это делать прямо из будуара.
Больше всего пострадали от нежных чувств металлургические изыскания. Все прошлое лето суда, идущие из Бристоля, по моему распоряжению балластировались коксом. Дальше его везли на Олонец. Я рассчитывал с началом зимы съездить туда на пару месяцев, чтобы погонять доменную печь на смешанном топливе, как у Дарби, а затем по результатам сих испытаний принять решение о чугунолитейном заводе на юге. Только Олонец – не Ладога, обыденкой мотаться в Петербург не будешь. А уезжать надолго от этого ласкового взгляда, греющего душу, как майское солнышко… Да и служебных поводов задержаться хватало, поездка откладывалась по многоразличным и весьма уважительным резонам.