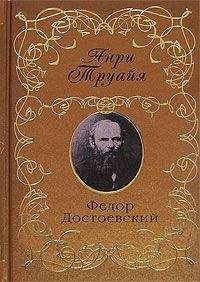Я поспешно отвернулся и сделал несколько шагов прочь, чтобы не выдать своего волнения. Потом собрался с силами и спросил у Галахада:
– Неужели?
– Да, – ответил тот спокойно, даже ласково. – Он. Рад, что твоя реакция оказалась именно такой. Сейчас я еще раз убедился, что приоритеты выбраны правильно, расчеты верны, что мы делаем нужное дело и так, как надо.
– А прежде у вас имелись сомнения? – Я не удержался от сарказма, пытаясь спрятать за ним смущение.
– Высокоинтеллектуальным сущностям свойственны сомнения. Продукт свободы выбора, – объявил Галахад.
И я уже не знал, как относиться к его словам. Кто такой Галахад – мудрец, позер, философ или просто железный человек, рассудочная, холодная личность? Да и сам я хорош. Расчувствовался, смутился, проявил слабость и сентиментальность.
Да, Гумилев, который стоит сейчас в десяти шагах от меня, – великий поэт, но отчего именно его судьба так важна для меня? Почему его появление так меня растрогало? Может быть, потому, что в его воскрешении проявилась высшая справедливость? Он, как никто, был достоин жить, а погиб молодым, не реализовав все грани своего таланта… Похоже, именно на это намекал Галахад, когда разглагольствовал о правильно выбранных приоритетах.
Если говорить о преждевременных смертях и поэтах – немало случаев было в России. Кто умер сам? Безвременно скончались Пушкин и Лермонтов, Маяковский и Блок. Но появись здесь, на окраине северного русского городка, солнце русской поэзии, Александр Сергеевич, я бы наверняка испытал благоговение, но не такое острое счастье и чувство восстановленной справедливости. Наверное, потому, что смерти Пушкина и Лермонтова были трагическими случайностями. Они могли убить противников на дуэли, но были убиты сами. А Гумилева безжалостно уничтожила система. Уничтожила и хотела вытравить всю память о нем…
Отключив коммуникатор, я вернулся к палатке:
– Извините, Николай Степанович. Я не узнал вас. Рад видеть. Несказанно рад.
Гумилев едва заметно поднял бровь:
– Взаимно, Даниил.
– Извините, если я буду сбивчив или растерян… Вы сказали, что у вас ко мне дело. Но какое? Я знаю о вас очень много, а вы наверняка даже не слышали обо мне.
Николай Степанович рассмеялся:
– Много знаете? Вот что значит публиковать свои дневники… Но и вы грешили тем же, и, наверное, в гораздо большей степени. Я читал о вас достаточно, Даниил.
– Читали обо мне? – опешил я. – Зачем?
Да кто я такой, что обо мне читал сам Гумилев? Чем заслужил?
– Потому что знал – нам предстоит встретиться, – заявил поэт. – И обсудить весьма важные вопросы. Но вы позволите приступить к разговору позже? Сейчас я бы хотел просто пообщаться. Узнать о вас и о ваших планах больше.
– Мог ли я мечтать об этом? Я имею в виду, пообщаться с вами? Конечно! Как вам будет угодно.
– Вот и отлично. Останемся здесь? – спросил Николай Степанович.
– Как вам будет угодно.
– Фридрих Вильгельм может помешать.
– Вы знакомы? Кажется, в свое время вы увлекались его идеями?
Гумилев поморщился:
– Было время. Да. Ницше – легендарная личность. Но сейчас, увы, неконструктивно настроенная.
– Точно.
– Вы не находите, что нашим потомкам или тем искусственным личностям, что участвовали в нашем воскрешении, забавно слышать такие рассуждения? Мы, осколки прошлого, рассуждаем об адекватности или неадекватности друг друга, хотя до конца не уверены в собственном существовании. Я бы сказал – посмертном бытии. Или вы уверены?
– Нет, не уверен, – не стал спорить я. – Напротив, подобные мысли посещали и меня.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
Николай Степанович рассмеялся:
– Да, вы вменяемы, видно с первого взгляда. И стихи мои читали?
– Не только читал. Любил.
– Спасибо, – Гумилев усмехнулся немного криво. – А сами пишете?
– Нет, и тому есть серьезные причины.
– Вот как? Интересно.
– Если вы не против, я сейчас об этом не буду. А ваши стихи всплывают в памяти постоянно. Только, полагаю, вам тяжело постоянно ощущать себя в роли поэта, которому капитан дальнего плавания всю ночь напролет читает его стихи?
– Ах, вы о том стихотворении! – вздохнул Николай Степанович. – Пожалуй, я все же писал его в предчувствии смерти. Но об этом я тоже говорить не хочу… Нет, в самом деле, здесь есть масса народа, которая обо мне слыхом не слыхивала. Особенно в вирте – как они называют искусственные сны. И радостного в этом не так много, как может показаться.
– Вы не слышали песен «Битлз»? – спросил я.
– Нет, а нужно было?
– Не знаю. Суперпопулярная в шестидесятые английская группа.
– Они пели через сорок лет после моей смерти и задолго до воскрешения, – констатировал Гумилев. – Ничего удивительного, что я о них не знаю.
– Так вот о своей популярности кто-то из них отозвался примерно в том же духе, что и вы сейчас. Репортер спросил у «Битлов», хотелось ли бы им, чтобы никто не узнавал их на улице. На что кто-то из парней ответил: такое часто случалось с нами, когда у нас было пусто в карманах. Удовольствие так себе.
Николай Степанович рассмеялся.
– Если вспомнить о гонорарах, полагаю, большого состояния сейчас не сколотишь. Конкуренция высока и, что самое главное, с годами только возрастает.
– Да, воскрешение Пушкина не за горами, – предположил я.
Беседа текла непринужденно, хватало даже намека, чтобы понять друг друга. Мне стало легко и приятно. Словно бы я знал Гумилева если и не всю жизнь, то долгое время. Будто бы мы расставались на какое-то время, а теперь встретились вновь. Главное на этой волне – не удариться в панибратство. То-то стыдно потом будет!
– Что вы орете? – раздался голос со стороны свалки. – Убирайтесь отсюда! Тут моя территория! Мой холм!
– Солнце светит всем, – тихо ответил Гумилев. – Но может быть, нам и правда стоит отойти? Вот только я не хочу сворачивать палатку.
– Федор, вы не тронете палатку? – громко спросил я философа, который бродил под холмом, но не поднимался к нам.
Тот лишь возмущенно фыркнул.
– Надеюсь, не тронет, – сказал Гумилев. – Поставим эксперимент.
– Поставим, – легко согласился я. – А давайте посидим в каком-нибудь городском кафе? Выпьем кофе или коньяку. Вы что предпочитаете?