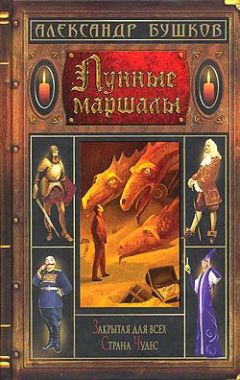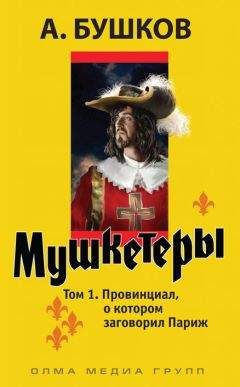смотришь…
– Товарищ старший…
– Гусь свинье не товарищ! – рыкнул Шушарин. – Я тебе, падла такая, гражданин старший лейтенант!
– Гражданин старший лейтенант, вы уж чего-то одного придерживайтесь, если речь зашла о Глембовичах…
– Это как? – спросил он нормальным голосом.
– Выберите что-то одно из двух, – сказал я. – Если меня в Глембовичах не было, я не мог иметь дела с тамошней учительницей. А если и был, если меж нами и в самом деле что-то случилось, это никакое не преступление ни по гражданским законам, ни по военным…
Он не был обескуражен – но в глазах определенно мелькнуло что-то умное, не вязавшееся с неандертальским обликом…
– Ладно, ври дальше!
Дальше и в самом деле начиналось сплошное вранье – но я успел его хорошо продумать, а он не мог ничего проверить и не способен был уличить меня во лжи…
Оксана выстирала мою военную форму, очень уж она испачкалась за последние дни, а чтобы я не сидел голым, завернувшись в рядно, принесла от соседа сапоги и ту самую одежду, в которой я объявился перед пограничниками. А назавтра, на рассвете, в деревне появились немецкие мотоциклисты. Не было времени переодеваться, вот я и рванул в лес в чем был. Вскоре вышел к большаку и двинулся на восток с несколькими военнослужащими, точно так же искавшими сборный пункт. Этих трех красноармейцев я описал подробно – что не составило никакого труда, когда речь шла о начисто вымышленных людях, главное было – накрепко запомнить их «внешность», чтобы потом не было разночтений в показаниях.
Через какое-то время налетели «мессеры» – неожиданно на полной скорости вынырнули из-за леса и помчались над шоссе. Сбросили несколько бомб, одна из них легла близко, и меня здорово шибануло взрывной волной, сбило с ног, швырнуло оземь. Долго провалялся без сознания, еле встал. Вот тут, я прекрасно понимаю, показания мои теряют всякую связность, но что поделать, если так и было? Голова туманилась, перед глазами все плыло, окружающее виделось как во сне, и время от времени наступали приступы полного беспамятства. Вроде бы меня какое-то время везла на телеге деревенская баба. Вроде бы на пути попадалась пара деревень, где мне удалось разжиться скудным харчем. Но большую часть пути я брел в одиночестве, толком не представляя, куда иду, с грехом пополам ориентируясь по солнцу остатками здравого рассудка. Одну ночь провел в стогу сена, вторую – в лесу под деревом. А потом вышел к дороге, представления не имея, где я, увидел пограничников, собрал последние силы и с превеликой радостью объявился…
Невозможно было определить, как он относится к моему рассказу. Чуть поразмыслив, он рявкнул:
– Вот и нашлась отправная точка! Ты, паразит, из Глембовичей вовсе не убегал! Там тебя немцы и приловили в хозяйкиной постельке, когда ты дрых, наблудивши! И склонили к измене. А чтобы как-то замаскировать эти два дня, что ты провел у немцев, выдумали баечку про бомбу и контузию, от которой у тебя, понимаешь, мозги перепутались. Ничего не скажешь, умно. О чем ни спроси, ответ будет один: в мозгах туманилось, ничего не помню. Немцы тоже не дураки, работать умеют… Давай чистосердечное, тогда, смотришь, и к стенке не встанешь, дальними лагерями отделаешься!
– И опять надо выбрать одно из двух, – сказал я. – Сами только что сказали, что немцы работать умеют. Что ж они оказались такими дураками, что отправили агента вроде меня – без единого документа, в странноватой одежде, не знающего точно, где находится? Снова одно с другим не вяжется…
– Что, хорошо знаешь методы работы немецкой разведки? Откуда?
– Я же говорил: служил в разведке погранвойск. Приходилось противодействовать немецкой агентуре. Так что некоторое представление о методах работы немецкой разведки имею. – И спросил безо всякой подковырки: – А вы?
– Не твое собачье дело, о чем я имею представление, а о чем не имею. Об одном я имею представление точно: как с гадами вроде тебя обращаться…
Он вылез из-за стола (и стало окончательно ясно, что наган на столе лежит для декорации, – у него на поясе обнаружилась кобура не от нагана, а от ТТ, и пистолет там имелся), поместился за моей спиной и рявкнул:
– Сидеть смирно, не оборачиваться!
И несколько показавшихся нескончаемыми минут торчал за моей спиной, грозно сопя и пару раз тряхнув спинку расшатанного стула. Учитывая его зверообразность и манеру разговора, следовало ожидать, что мне вот-вот крепенько прилетит кулачищем по загривку. Учитывая возникшие у меня подозрения и кое-какие беглые наблюдения за личностью Шушарина – вряд ли…
Обошлось, и пальцем не тронул. Дал мне почитать мои показания (надо отдать ему должное, записано верно, без малейших попыток извратить что-то в угодном ему направлении, пришить шпионаж и измену), дал расписаться. Вручил небольшую стопку бумаги, авторучку, приличный огрызок чернильного карандаша и велел написать в камере все, что рассказал ему. На том и распрощались без малейших сожалений с моей стороны.
Разумеется, я все старательно написал. Бумаги осталось еще три листочка, а вот чернила в паршивенькой авторучке кончились – и пришлось писать карандашом (Шушарин оказался предусмотрителен).
Постучал в дверь, отдал эпистоляр часовому. Часа два меня не тревожили, а потом выдернули, как оказалось, на очередной допрос. Там я очень быстро убедился, что мои предположения оказались верными и со мной работают по той же самой методике, какую у нас в комендатуре пользовали Паша Кондратенко и Нина Бакрадзе, только еще жестче…
Второй следователь, капитан Галицкий, оказался полной противоположностью Шушарину. Постарше, лет сорока, с тонким интеллигентным лицом и тремя наградами на гимнастерке: орден «Знак почета» (им в системе НКВД до войны награждали часто) и медали «За боевое отличие» и «XX лет РККА» (ее давали не только отслужившим двадцать календарных лет, но и тем, кто служил меньше, но каким-то образом отличился). И ничего огнестрельного на столе. Говорил он ровным тоном, называл меня исключительно на «вы», ни разу не повысил голоса, не употребил не только ни одного матерного слова, но и ни одного вульгарного. Когда я (чисто проверки ради) назвал его товарищем капитаном, он так же ровно и бесстрастно сказал, что в моем положении мне следует называть его «гражданином». А главное, кроме той пачки «Норда», из которой брал папиросы (курильщиком он, сразу видно, был заядлым), положил передо мной вторую, непочатую, придвинул спички и сказал, что курить я могу сколько угодно. Чем я без ненужного жеманства воспользовался.
Однако игра на контрастах и есть игра на контрастах. Интеллигентный, вежливый Галицкий вцепился в меня как клещ, почище Шушарина. Мою унылую одиссею