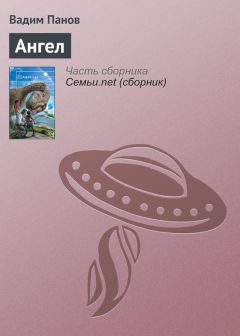– Молчи, дура! – рявкнул Комаров. – Где он?!
– Ненавижу…
Из кухни – там был устроен чёрный ход – появились милиционеры, недоуменные и обескураженные.
– Вы его спугнули? – накинулся на них Комаров. – Он вас увидел?
– Потом будем разбираться, кто кого спугнул! – Петров бросился к окну. – Потом!
Надо было торопиться, пока Яковенко не затерялся в вечерних сумерках.
К счастью, прыть душегуба сыграла с ним злую шутку: выбив окно, он порезался об острые осколки и теперь оставлял за собой кровавый след, отменно видимый на белом рыхлом снегу. И ведь догадайся Яковенко распахнуть раму, а не переть напролом, не оцарапался бы и преспокойно скрылся в хитросплетениях ростовских улочек.
«Надо, надо догнать!» – думал Петров.
Он мчался, не жалея ни ног, ни сапог, будто от успеха погони зависела его жизнь. Но в тот день, увы, стать героем не свезло: свернув за угол, Егор обнаружил, что след обрывается прямо посреди заснеженной улицы. Он так и застыл перед последним кровавым пятном, и набравший ход Фролов едва не сбил его с ног.
– Ванька, ну! – возмутился Петров, зло сверкнув глазами.
Орал он скорее для острастки, крайне раздосадованный тем, что они столь бездарно упустили беглеца.
– Прости, Егор, – потупился Фролов.
– Да толку с извинений?! – раздражённо отмахнулся Петров. – Вона, душегуба упустили!
– Ну а что мы, Егор? Мы ж бежали, как могли…
– Ну да, бежали…
Яковенко, судя по всему, на чём-то уехал, иначе как можно объяснить, почему след обрывается посреди улицы? Скорее всего, случайного извозчика поймал, можно сказать – повезло. Куда уехал? Об этом следовало расспросить его благоверную.
Когда расстроенные милиционеры вернулись в дом, Комаров, нужно отдать ему должное, понял всё с одного взгляда и ругать подчинённых не стал. Поморщился, повернулся к женщине – она по-прежнему сидела за столом – и жёстко спросил:
– Куда твой муж побежал?
– Я… я… я не знаю ничего… клянусь вам, товарищи милиционеры, не знаю…
Она стала было креститься, но Комаров не позволил: с презрительной миной хлопнув её по руке, вновь потребовал выдать убежище супруга. Увы, новый ответ ничем от прежнего не отличался. Всё, что услышал старший милиционер, это заверения в собственной непогрешимости. Мол, «мы хоть и жили под одной крышей, но я и помыслить не могла…».
«Ну да, ну да, небось в задней комнате варежки вязала, покуда он очередного мужика кончал», – с отвращением подумал Егор.
Ему стало омерзительно глазеть на дурную, напуганную и полупьяную бабу, которая вертелась, словно уж на сковородке, и он отвернулся к пацанёнку. Мальчишка, как прежде, стоял в углу, ни жив ни мёртв. Был он темноволосый, худющий, сгорбленный и какой-то… нервный: то ручкой тонюсенькой дёрнет, то ножкой притопнет. Боится… Понятно, что боится. Петров вздохнул. А потом подумал, что Яковенко не очень-то сына стеснялся, убивал небось прямо на его глазах, зная, что отпрыск всё равно не выдаст, и от этого милиционеру стало ещё муторнее.
– Эй, – осторожно позвал паренька Петров.
Тот вздрогнул и робко оглянулся.
– Не бойся, – тихо сказал Егор. – Не обижу.
Он словно бродячего щенка из норы выманивал. До смерти напуганный бессердечными людишками зверёк не хотел покидать укромное логово и возвращаться в жестокий мир, но он, возможно, знал что-то нужное, поэтому милиционер продолжил.
– Кто тебя так? – взглядом указав на синяк под левым глазом, спросил Петров.
Мальчишка потупился.
– Скажи. Мне можно.
– Мамка, – шумно втянув воздух ноздрями, ответил паренёк.
Петров оглянулся на причитающую Яковенко, брезгливо поморщился.
«Ну и семейка…»
– Ты, главное, не бойся. Мы тебя в обиду не дадим. Как тебя звать, кстати?
– Остап.
– А меня Егор Михайлович.
Петров медленно протянул Яковенко-младшему руку, и тот с опаской её пожал. Ладошка у мальца была совсем холодная, даже ледяная.
– Скажи, Остап, куда твой батя делся?
Мальчишка отвёл взгляд, и Петров понял – знает. Или догадывается. Однако давить на него, как на мамашу, нельзя: паренёк только начал открываться и любое неосторожное слово способно его спугнуть.
– Не бойся, Остап, – ободряюще произнёс милиционер. – Я ж сказал: мы тебя в обиду не дадим.
– Батя тоже… тоже так говорил… – хрипло заметил мальчишка.
У Петрова ком к горлу подкатил. В тот миг он больше всего на свете хотел очутиться рядом с ненавистным душегубом Яковенко и пристрелить его, как бешеную собаку. Но говорить об этом Остапу не стал: сколько б тараканов ни водилось в голове Яковенко, был он для мальчишки прежде всего отцом, а следовательно, родным человеком.
– Скажи, где батя, Остап, – попросил Егор. – Он нам очень нужен.
– А вы его хотите… того? – Остап посмотрел на милиционера глазами, полными слёз. – Расстрелять?
– То не нам решать, а народному советскому суду, – ушёл от прямого ответа Петров. – Мы, Остап, просто ловим, кого скажут.
Мальчишка помолчал недолго, а потом сказал:
– У меня дядя в селе, матери брат. Может, батя к нему побёг?
– А что за село?
– Не знаю, – снова уткнулся в пол паренёк.
Петров задумчиво пожевал нижнюю губу, затем резко поднялся и, взъерошив Остапу волосы, сказал:
– Это меж нами, понял? Я вот никому не скажу, а ты?
Мальчишка охотно замотал головой и с опаской покосился в сторону матери: не смотрит ли? Но той явно было не до сына.
Петров улыбнулся Остапу уголками губ, оглянулся на Комарова с Яковенко, решил не мешать – пошёл вдоль стен, рассматривая редкие снимки. Вот душегуб с однополчанами на фоне ночного Ростова, где близ Зелёного острова во время гражданской расквартировали их взвод. Вот – с женой в Риге…
Ничего, что могло бы помочь в поиске сбежавшего лихача, на снимках не было, и Егор обратился к допотопному комоду, стоявшему в углу. В верхнем ящике на первый взгляд ничего интересного, так, тряпьё, но Петров всё равно поворошил его, нащупал что-то твёрдое, достал находку и присвистнул.
Это был нож, причём старинный, кованный вручную. Клинок довольно длинный, дюймов семь, покрыт полустёршимся узором. Рукоять костяная и не очень большая для столь мощного лезвия…
«Для женской руки», – неожиданно подумал Егор.
И приглядевшись, увидел, что на кости изображён танцующий журавль.
«Откуда, интересно, у Яковенко такой нож?»
Впрочем, после гражданской во многих семьях появились неожиданные «находки», сделанные в разграбленных барских усадьбах.
Петров замотал добычу в тряпицу и положил на комод. Выдвинул следующий ящик, увидел аккуратную пачку писем, перевернул к себе лицом и прочёл: «с. Никольское».
«Неужели так легко?»
– Нашёл, Семен Евгенич! – воскликнул Петров.
Старший милиционер резко обернулся:
– Чего нашёл, Егор?
– Нашёл, куда душегуб наш сбёг! – Петров помахал письмами. – В Никольском он, поди. У него там родственники.
Судя по тому, как побледнела госпожа Яковенко при упоминании села, предположение было верным…
… Дом Василия Баранова, который приходился беглому душегубу шурином, нашли быстро – показали игравшие на улице мальчишки. Наученный горьким опытом, Комаров на этот раз отрядил к каждому окну по милиционеру, сам с тремя смельчаками отправился к главному входу, а Петрова и Фролова послал к чёрному.
На подготовку дал три минуты, и ровно по прошествии этого времени Егор услышал громкое:
– Именем советской власти, откройте!
И стук в дверь, больше напоминающий грохот.
А в следующий миг Петров увидел Яковенко: бугай выскочил из дома и легко, как ребёнка, сбил с ног замешкавшегося Фролова. И тут же замахнулся молотком.
– Стоять! – рявкнул Егор и выстрелил в воздух.
Душегуб замер.
– Бросай молоток и руки подними! А то пристрелю.
Переть против «нагана» Яковенко не решился: выругался, отшвырнул инструмент и покорно исполнил приказ. Фролов поднялся на ноги и торопливо застегнул на душегубе наручники.
Казалось бы, дело сделано, но когда напарник развернул Яковенко лицом, Петров увидел, что душегуб улыбается. Не униженно, в надежде «понравиться гражданину начальнику», не от страха, а весело, даже надменно. Улыбается так, словно это он поймал милиционеров, а не наоборот, и Егор от неожиданности вздрогнул. На миг ему почудилось, что бугай при желании способен с лёгкостью разорвать наручники, покрошить всех милиционеров в капусту и преспокойно вернуться туда, откуда прибыл, то есть – в ад.
И впервые за годы службы Петров пожалел, что его «наган» заряжен свинцовыми, а не серебряными пулями.
– Чего лыбу давишь? – срывающимся голосом осведомился он, продолжая держать душегуба на мушке.
– Ползаете все, червями, – пробасил Яковенко, не прекращая улыбаться. – Смысла не видите. В земле начали, в земле и кончите.
Голос у него оказался почти шаляпинский – мощный, густой, резонирующий.
– Чего ты плетёшь? Какого мы смысла не видим?