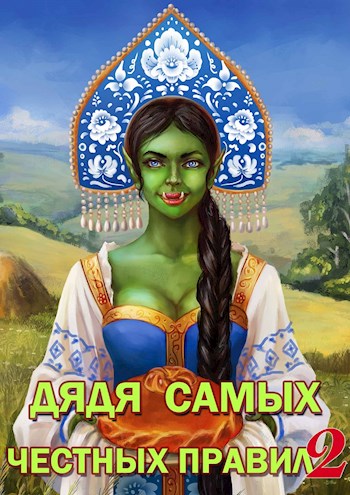меня покорно простить, но ваш, если можно так сказать, кот…
— Что мой кот?
— Он в некотором роде изволил выходить во двор, и случилась некоторая баталия.
Оболенский резко перестал икать и уставился на хозяина трактира.
— Да-с, ваше благородие. Ваш, как я говорил, кот напал на моих собак. Прямо зверем на них кинулся, стал драть, аж шерсть клоками летела.
Мурзилка, внимательно прислушивавшийся к разговору, ощерил пасть. Будто специально показывал острые клыки.
— Ваше благородие, три хвоста отгрыз, одной собачке чуть лапу не оторвал. Как же я без собачек-то? Трактиру без собак никак нельзя. А котик ваш прямо зверствовал не по чину, убытки причинил. Возместить бы надобно…
Уронив стул, Оболенский вскочил и заорал на хозяина трактира:
— Что?! Кот тебе собак подрал? Значит, дурные собаки были, раз такой мелкий зверь их покалечил! Негодные собаки! Да как ты, смерд, вообще вздумал денег просить? И у кого?! У дворян деньги вымогаешь? Может, это ты сам своих собак топором порубил, чтобы копейку с приезжих слупить? А?! Ну-ка, отвечай — злоумышлял против дворянства? Против матушки-императрицы мятеж задумал? Я вот сейчас тебя в кандалы!
Секунд-ротмистр потянулся к шпаге, стоявшей возле стены. Но пошатнулся, уронил и шпагу и бутылку со стола, да и сам чуть не упал, с трудом сохранив равновесие.
Солдаты, услышав шум, подбежали и окружили нас плотным кольцом. Двое подхватили Оболенского под руки, а третий подобрал шпагу.
— Ваше благородие, вам отдохнуть надобно. Идёмте, от греха подальше.
Оставшиеся оттеснили хозяина трактира в сторону, и оттуда послышалась пара глухих ударов.
— Нет, — раздался сдавленный стон, — ошибся, господа. По недомыслию хулу возвёл.
Толпа вокруг стола быстро испарилась. Хозяин сбежал, Оболенского отвели в комнату на втором этаже, а солдаты вернулись в свой угол к недопитым штофам.
Около меня остался только один человек — тот самый усач.
— Разрешите, — он указал на стул, где ранее сидел секунд-ротмистр, — ваше благородие.
Последние слова он сказал таким тоном, что у меня не осталось сомнений.
— Вы ведь дворянин, сударь.
Усач сел и пожал плечами.
— Это не имеет значения, Константин Платонович.
Он понюхал стакан, из которого пил Оболенский, и скривился.
— Надеюсь, вы не пили эту гадость? Нет? Ну, и правильно, здесь ничего путного подать не могут.
Вытащив платок, он брезгливо вытер пальцы после стакана.
— Константин Платонович, послушайте доброго совета: забудьте, что вам наговорил Александр Фёдорович. У него сейчас сложный период в жизни: наделал карточных долгов, получил взбучку от главы рода, был переведён из кавалерии, — усач чуть заметно усмехнулся, — к нам. А сейчас выпил с устатку, вот и понесло его болтать всякую ерунду.
Вот оно что! Оболенский, оказывается, у нас “свадебный генерал”, исполняющий исключительно парадные функции. Приехать, зачитать бумагу, сопроводить и не больше. И звание секунд-ротмистр действительно кавалерийское, так что сходится. Тогда и болтливость его понятна — что взять с армейского?
А сидящий напротив меня усач и есть настоящий специалист Тайной канцелярии, замаскировавшийся под простого солдата. Зачем? Для удобства и безопасности? Если он “магодав”, как ляпнул Оболенский, такая хитрость объяснима — окажи я сопротивление, под удар попал бы секунд-ротмистр, а усач заломал в ответ.
— Как вас по имени-отчеству?
— Называйте Иван Ивановичем, не ошибётесь.
— Иван Иваныч, я не понимаю, о чём вы. Александр Фёдорович рассказывал мне о новинках столичных театров и новостях высшего света. Не хотелось бы приехать в Петербург совсем уж дремучим провинциалом.
Усач одобрительно прищурился.
— О театрах, значит?
— Конечно! Александр Фёдорович в красках описывал новый спектакль “Трое горбатых” и немного увлёкся.
— Очень хорошо, — усач кивнул, — верю, что так всё и было. Кстати, — он посмотрел на меня пристальным взглядом, — Василий Фёдорович вам кем приходился?
— Дядей.
— Вы близко его знали?
— Увы, — я развёл руками, — по моему приезду Василий Фёдорович уже сильно болел, и поговорить нам почти не пришлось. Но своим обучением в Париже я обязан исключительно ему и горд, что именно меня он выбрал наследником. Василий Фёдорович был настоящим дворянином и человеком чести. Полагаю, государева служба потеряла очень многое, когда он оставил её.
Эту речь я развёл исключительно ради прозрачного намёка в конце. И не ошибся — “Иван Иваныч” прекрасно его понял. Глаза у него довольно блеснули, и он кивнул.
— Да, тяжёлая потеря. Многие были обязаны ему своим положением и успехами по службе. Доброй души был человек, помогал не ради денег или услуг.
Я кивнул в ответ.
— Дядя умел видеть в людях истинные достоинства.
Усач вздохнул и встал.
— Что же, не буду вам мешать. Ужинайте, Константин Платонович. Комната для вас готова, мы присмотрим, чтобы никто не беспокоил ваш отдых.
Он хотел уже уйти, но я подался вперёд и тихим голосом сказал:
— Иван Иваныч, секундочку.
Я поднял руку и провёл пальцем по верхней губе.
— Что? — Он не понял моего жеста.
— У вас, — я произнёс ещё тише, — ус отклеился.
Он закашлялся и огладил рукой усы.
— Благодарю, — сдавленно бросил он и поспешил уйти от моего столика.
Я смотрел ему в спину без улыбки. Надеюсь, этот разговор пошёл мне на пользу — Тайная канцелярия не та контора, с которой хотелось бы ссориться. И первый “подход к снаряду” вроде прошёл не зря.
* * *
На следующее утро выехали мы рано. Оболенский выглядел помятым и всклокоченным. Когда карету потряхивало, он морщился, видимо от головной боли. Я бы мог ему посочувствовать, но секунд-ротмистр виноват сам — не стоит пить что ни попадя. Особенно, когда исполняешь служебное поручение.
С другой стороны, понять Оболенского можно. Его против воли загнали служить в Тайной канцелярии, вот и будет он служить без рвения. Особенно если чувствует в этом урон своей чести. Не думаю, что эта всесильная контора пользуется большой любовью среди дворян, и он несомненно тяготится.
— В таверне что-то подливают в выпивку, — Оболенский застонал на очередном ухабе. — Чувствую себя, будто наелся тухлятины.
Я сочувственно покивал бедняге.
— В обед ничего не ешьте, Александр Фёдорович, а закажите себе бульону куриного. Самое первое средство в таких случаях.
— Попробую, — согласился он и снова скорчил недовольную рожу, — так дурно, что даже видения появляются.
— В самом деле?
— Угу. Мне то и дело кажется, что с