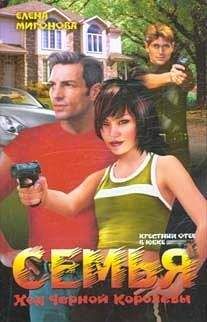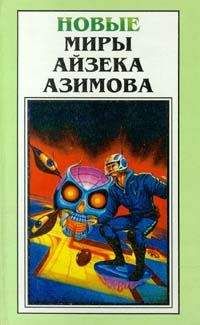было всё точно также, как и тогда, когда мы покидали его. То есть тихо. Мы дошли до того дома, где жила Настасья, но она туда не пошла, а почему-то увязалась за мной. Я же шел в школу. Следовало узнать, что с моими, уехали они или ещё остались из-за Гришки. В душе я надеялся, что остались и мне не придётся их догонять.
Школьный двор, где мы временно жили, встретил меня тишиной. Но все наши фургоны и телеги были на месте. Это меня здорово обрадовало. Значит, не придется догонять.
— Ты дальше куда? — у ворот школьного двора спросил я Настасью.
— Я тебя здесь подожду, — кратко ответила она и я не стал больше ничего уточнять.
Я вошел в школу, и поразился: Гришка лежал, как и раньше, с закрытыми глазами и почти не подавал признаков жизни. Его зелёная нить стала толстой, почти как жгут. Рядом с ним, на стуле сидела Люся.
— Привет, Люся, — тихо сказал я, чтобы не напугать девушку.
Люся посмотрела мимо меня расфокусированным взглядом и не ответила ничего.
— Люся? — переспросил я.
Она продолжала сидеть и смотреть куда-то сквозь меня, в одну точку. Я присмотрелся — от её головы куда-то вверх тянулась зеленоватая нить.
Ладно.
Ведомый дурными предчувствиями, я заглянул в класс, где спали девушки. Клара и Нюра сидели на своих тюфяках и тоже признаков разума не проявляли. На мои слова не отреагировали. И да, от них тоже шли зеленые нити.
— Жесть, — сказал я.
Парней в школе не было.
— Енох, Моня! — сказал я, уже не таясь от девчат (всё равно они не реагируют), — выходите.
— Уже и я теперь не могу! — тихо просипел Енох. От Мони вообще донеслись какие-то невнятные звуки, слов я не разобрал.
— Ладно, пока так. Я разберусь с этим, — сказал я и вышел на школьный двор. Там, на лавочке, втянув голову в воротник тулупчика, сидела Настасья. На улице уже по утрам подмораживало, а днём было зябко и сыро. Ноябрь близился к своему концу.
— Ну что? — спросила она.
— Надо наших парней найти.
— А что их искать — в молельной они, — пожала плечами Настасья и вздохнула.
— Почему там?
— А Епифан всегда, когда только начинает новых последователей обрабатывать, в молельной их держит.
— Пошли! — велел я.
И поправил лямки торбы.
— А зачем тебе торба? — спросила Настасья. — Я вот свой узел хочу у вас в школе оставить. Тяжело.
— Надо, — ответил я и кивнул на школу, — оставляй.
Настасья живо обернулась и, уже с пустыми руками, появилась передо мной.
Мы отправились к молельне.
Село словно вымерло.
Оно и так было молчаливым, после того, как селяне вырезали весь скот — ни криков петухов, ни мычания коров не слышно было. Да и собак тоже. А теперь и людей не было. Вообще.
Ветер скрипел незапертыми ставнями на чьем-то доме. И этот единственный звук навевал такой страх, что я невольно ускорил шаг. Настасья, кстати, тоже.
Аж жутко.
В молельном доме было тихо. И это было тем более странно, что там находились люди. Много людей. Включая Гудкова, Зубатова, Бывалова, Бобровича и Голикмана.
Люди стояли и смотрели в одну точку. От их голов вверх отходили зеленоватые энергетические нити.
На пороге я сперва замялся, затем-таки вошел внутрь. Настасья упорхнула куда-то за боковую ширму-перегородку для служек.
Люди стояли. И я стоял. Ничего не происходило.
У меня уже ноги затекли, и я думал, куда бы сесть.
И тут дверь открылась и в помещение вошел Епифан. Меня он не заметил, так как передо мной стояли два здоровых крестьянина.
Епифан встал на небольшое возвышение и простер руки над толпой. Он заговорил что-то речитативом и мои мысли поплыли. Усилием воли я сдерживал себя. Сделал шаг навстречу ему. Ноги были как деревянные.
Ещё шаг.
И ещё.
Наконец, Епифан меня заметил:
— А-а-а-а-а! Вероотступник! — хрипло сказал он, — приспешник нечистого!
— Сам такой, придурок! — ответил я, продолжая идти в густом, словно кисель, воздухе.
В кармане я сжимал шило с мощами святого Пантелеймона.
Ещё шаг.
— Дети мои! — воскликнул Епифан, видимо, заподозрив что-то неладное, — поразите бесовское отродье!
Вот урод, за отродье буду тебя сейчас убивать с особой жестокостью. Я сделал ещё шаг. Идти стало ещё труднее.
Тем временем люди начали поворачиваться ко мне. При этом все смотрели куда-то сквозь меня. Агитбригадовцы, кстати, тоже. Здесь же были и местные комсомольцы. Ближайший крестьянин крепко уцепился за рукав моего тулупчик, так, что я не мог даже пошевелиться. А ото всюду уже тянулись ко мне загребущие руки. Хорошо, что все были какие-то вялые, видимо для подзарядки Епифан и проводил эти молебны. Поэтому я принялся вырываться из цепких рук.
— Убейте его! — воскликнул Епифан истерическим голосом, — мы должны очистить этот мир от скверны!
И я понял, что просто не вынесу такую массу людей, когда они всё вдруг на меня попёрли.
— А-а-а-а-а-а-а-а!!! — внезапно с жутким визгом на Епифана выпрыгнула Настасья и воткнула ему нож в глаз.
Проповедник сектантов тоненько закричал, зашатался и со страшными хрипами стал оседать, пытаясь вырвать нож.
Человеческая масса сразу как-то замедлилась. Словно отупела.
Воспользовавшись этим, я легонько кольнул державшего меня крестьянина со словами «Изыди!» (так советовал мне Софроний). Тот как-то странно охнул или вздохнул и осел на пол. Я хотел проверить, жив ли он, но меня уже схватили другие руки. И того я кольнул, и следующего. Я методично, словно уборщица-перфекционистка в общественной бане, проходил мимо каждого сектанта, каждого колол и каждому говорил: «Изыди». Буквально через минут десять, все уже дружно лежали на полу, корчась в судорогах.
Агитбригадовцев я оставил напоследок. Да и то, только потому, что не совсем был уверен, как оно подействует на людей. А вдруг после моих «уколов» они все сойдут с ума? Или вообще умрут.
— Что с ними? — свистящим шепотом спросила Настасья, потирая ушибленную руку.
— Пока не знаю, — ответил я и похвалил, — а ловко ты его. И не испугалась!
— Испугалась, — всхлипнула Настасья и губы её задрожали.
Всё ясно — откат после сделанного.
Чтобы отвлечь её от истерики я велел:
— Проверь их — живы или нет?
Настасья затравленно взглянула на меня, подавив всхлип, и послушно нагнулась над каким-то дядькой, тормоша его за плечо. А я подошел к Епифану. Тот лежал на боку, под ним натекла лужа крови. Ножа в глазу уже не было (как и самого глаза). Но он был ещё жив.
— Как ты поработил их? — спросил я, чуть наклонившись к умирающему, — признайся, очисть душу, и я обещаю