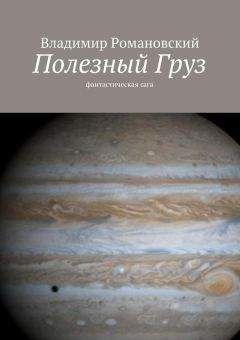А Жимо подумалось, что тоннель этот – уменьшенная копия проходов между помещениями станции на Ганимеде. Хотя вроде бы откуда ему знать, какие станции на Ганимеде. Вроде бы он там никогда не был. Точно не был. Слушал чьи-то рассказы, наверное, или видел фотографии. В новостях о Ганимеде говорили не чаще, чем о нефтяных платформах посреди морей. Работают люди, добывают вещества, которые потом конвертируются в энергию. Люди известные и говорливые такие места не посещают, репортажи о них не пишут. Нечем там интересоваться, все понятно и рутинно.
Тоннель оказался длинный, с плавными поворотами, иногда полого спускающийся, иногда полого поднимающийся. Голый Рюрик полз впереди, светя фонариком, и подбадривая остальных:
Вперед, вперед, еще немного.
И слышен был гул наверху, и даже грохот, и иногда дрожала под ладонями и коленями земля, и думалось, что это землетрясение, хотя ни Прохановой, ни Чайковской никогда раньше не случалось пережить землетрясение. От толчков с потолка и со стен сыпалось, приходилось наклонять голову, и Чайковской казалось, что никогда это не кончится.
После очередного поворота гул наверху усилился, стал похож на раскаты грома, все вокруг заходило и затряслось, затем грохнуло оглушительно, и впереди что-то обвалилось, просело, поплыло по швам, и сверху прямо перед Рюриком в тоннель въехала почти вертикально, пробуравив потолок, железобетонная балка. И тут же тоннель осветился фиолетовым светом – очевидно, в данном месте он пролегал недостаточно глубоко, и волнение несущих конструкций наверху частично вскрыло его, как айсберг вскрывает бок зазевавшегося корабля – и сверху, с поверхности земли, по-прежнему горящая Авдеевка дала о себе знать.
Еще раз тряхнуло, и дыра в потолке и стене тоннеля рядом с балкой расширилась, и в нее ворвались языки пламени.
Пиздец, подумала Чайковская, упершись ладонью в жопу застывшей Лизки.
А Рюрик совершил нечто совершенно непонятное. Схватившись рукой за балку, он закрыл – закупорил – образовавшееся отверстие собственной головой. Вроде бы. Верхом головы. И распластался по стене тоннеля. И закричал страшным голосом:
– Ползите, блядь! Все, вперед, быстро! Лиза, возьми фонарик!
Проханова подобрала фонарик и поползла, протискиваясь между Рюриком, балкой, и стеной слева. Чайковская поползла за ней, и тоже стала протискиваться. Протиснулась. Лизка ползла вперед быстрее, чем раньше. Чайковская еле за ней поспевала, страшась оборачиваться. Тоннель расширился, затем еще расширился, и потолок пошел круто вверх. Чайковская подумала, что можно даже, наверное, встать, и идти пригнувшись. И стала присматриваться – но свет от фонарика заходил вдруг в лизкиной руке из стороны в сторону, потом мигнул, и куда-то пропал. Может, батарейка села. Чайковская поползла еще вперед и наткнулась на Лизку, лежащую ничком. Дура потеряла сознание. Чайковская наощупь поползла вдоль тела подруги – ширина тоннеля теперь позволяла – остановилась, и попыталась Лизку повернуть на бок. Повернула, и тут же обнаружился фонарик. Не села батарейка, просто Лизка, теряя сознание, накрыла его животом.
Чайковская посмотрела назад. Там светилось пульсирующими отсветами, но ни Рюрика, ни попрошайку видно не было – их скрыл поворот тоннеля. Что-то там стряслось. Возвращаться немыслимо. Чайковская встала на четвереньки, затем на ноги, осторожно распрямляясь. И выпрямилась целиком. Потолок недалеко – возможно, мужчине тут нужно будет идти, чуть пригибаясь. Держа в левой руке фонарик, Чайковская присела на корточки возле Лизки.
– Эй. Вставай. Пойдем.
Лизка продолжала лежать на боку с закрытыми глазами. Чайковская поднатужилась, перевернула ее на спину, и хлопнула по щеке. Никакой реакции. Может, померла, подумала Чайковская. Она снова встала на четвереньки и прислонила ухо к лизкиному носу. Слышно ничего не было из-за грохота наверху и позади, но дыхание лизкино она почувствовала. Распрямив спину, Чайковская еще раз хлопнула Лизку по щеке. Нашла время падать в обморок, сука, подумала Чайковская.
Ей никогда в жизни еще не приходилось применять какие-то усилия без видимой для нее самой пользы. Но почему-то она знала точно, что идти вперед одной нельзя. Не потому, что ее могут там, впереди, на воле, неправильно понять. А просто – нельзя.
Бог есть, подумала почему-то Чайковская.
Она переместилась, наклонилась, взяла Лизку под мышки, сжимая в левой руке фонарик, работая запястьем, и сделала шаг назад, таща Лизку за собой.
– Корова жирная, – сказала Чайковская. – Очнись, гадина.
Было очень тяжело. После каждого шага приходилось переводить дыхание. Голова наполнилась туманом, мысли путались. Чайковская мычала, материлась, гыкала, и тащила Лизку. Несколько раз делала короткие передышки. Ни голый Рюрик, ни Жимо все не появлялись. После сотого, тысячного, миллионного шага Чайковская уперлась спиной во что-то плоское, твердое, и холодное. Холодное вселяло надежду. Опустив Лизку, она повернулась и посветила фонариком. Металлическая дверь. Засов. Чайковская потянула засов, и он поддался. Дверь открылась.
Чайковская заступила в помещение подвального типа, с какими-то трубами, баллонами, кучей всякой дряни на полу. Справа виднелась лестница с металлическими перилами. Чайковская, стеная от боли в спине и плечах, подошла к лестнице, схватилась за перила, и стала подниматься. Обнаружилась площадка и еще одна дверь. И еще одно помещение – как заброшенный цех в заброшенной фабрике. Чайковская пересекла его по диагонали. Еще одна дверь некоторое время не поддавалась – Чайковская ударила ее ногой, и еще раз. Слезы потекли из глаз. Еще один удар ногой – и дверь открылась.
За дверью все еще была Авдеевка – но не горящее инферно, а обычная, безлюдная, с индустриальными зданиями тут и там и пустырем – самый край Авдеевки. Чайковская вышла на белый свет. Цех, как ей и подумалось ранее, находился в заброшенном заводе. А может это был склад. Она прошла вдоль стены до угла. Метрах в трехстах от нее, позади, бушевало пламя. Фиолетово-черный дым странным образом удерживался над пламенем – никуда от него не отдаляясь, не распыляясь. Воздух ничем особенным не пах – никакой гари.
Надо было вернуться за Лизкой, попытаться еще раз привести ее в чувство – по лестнице вверх ее не затащить, тяжелая, сволочь. Но сперва нужно передохнуть. Потому что сил никаких нет, блядь.
Она оглядела себя – разодранные грязные колени, разодранные грязные ладони, грязь, грязь везде, ссадины, и все болит. Ей стало себя очень жалко. Сейчас бы выпить чего-нибудь. И закурить. А еще лучше – чтобы подъехал вуатюр. Сесть в него, и через двадцать минут быть в уютной квартире, чистой, светлой, совершенно безопасной. Куда ей теперь? Ее ищут снайперы. Надо связаться с папой. Но недавние события указывали на то, что папа вовсе не так всесилен, как она раньше себе представляла.