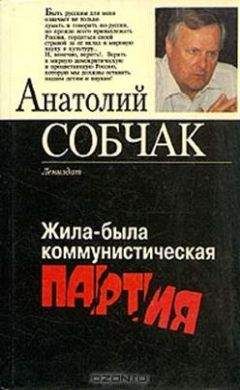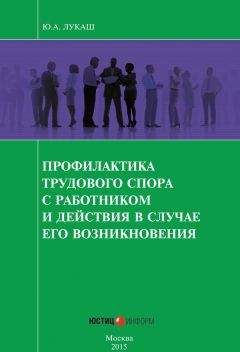– …Вот нехристи, – сказал огорчённый голос, а потом: – Вставай, голубчик.
Саша встал в два приёма, то есть сперва сел и пощупал карманы: ищи-свищи. В бумажнике были все карточки, в телефоне – все контакты.
– Что же это?
– По голове тебя, голубчика, стукнули.
– Кто?
– …
– …Кошелька нет…
– Совсем некрасиво.
Саша пригляделся и сквозь головную боль опознал человека с метлой. Вблизи тот был огромный, красиво кудлатый, хорошо пахнущий дымком и парком.
– …Вы здесь дворник?
– Я здесь дядя Миша – незаконная власть. Хотели выбрать коменданта, да перелаялись. Я вроде как самопровозглашённый. Пойдём, полежишь.
Эта комнатка отличалась следующими чертами: чистая и полупустая. Стены и дощатый пол были свежеокрашены, голое окно – отмыто, две кровати тщательно заправлены (в пионерлагерях так заправляют? в казармах?), грубый, из садовой мебели или лично сколоченный стол у окна освобождён от сопутствующего хлама: ни бумаг, ни посуды. Полка, вешалка, картонная коробка. Бессознательно Саша поискал глазами какой-нибудь винтаж, какой-нибудь антиквариат и тут же очнулся: откуда? Прежние люди получили во владение новые вещи; доступ к гаджетам. (Доступ к гаджетам: «Мы, Энгельгардт, не пещерные», – успел сказать Брукс. Многие из современных устройств воплотили смелые мечты тогдашних технократов. Детали не всегда совпали… полёты в космос, человек-амфибия и города под водой, стеклянные прозрачные дома, крайняя урбанизация, гоночные самолёты, летающие танки, объёмное телевидение, передача энергии без проводов, искусственное улучшение памяти, анабиоз, трансплантация, атомная взрывчатка, радиоревольверы, подслушивающие стены, звуковое оружие, машина внушения, машина ужаса, метро от Москвы до Владивостока, лучи смерти; советская фантастика 20-х жила предощущением сбывающейся утопии, а фантастика 30-х – предчувствием войны… детали не совпали, но горячая вера в могущество науки погасила удивление. XXI век разложил на своих прилавках сбывшиеся мечты, и то, о чём не мечтали и не думали вообще, и параноидальные прозрения; чудо сбылось, страхи сбылись. И как будто о чём-то другом мечтали, не того боялись: всё оказалось совсем, ну совсем не таким.)
В меньшей степени это относилось к современной одежде – и как не все девяносто лет назад были технократами, так и не все оценили наш стиль комфортной одноразовости и общественную лояльность к кроссовкам в концертном зале. (Ну а что, если всё пойдёт в итоге на одну помойку: певцы, художники и кеды.) И если Брукс нашёл в берцах и камуфляже обновлённую версию военного коммунизма, если кожаная куртка в любой своей версии прежде всего – кожаная куртка, «кожанка», то многие приняли щедрые дары XXI века с тоской и смущением. Собственно говоря, скверный костюм Посошкова это манифестировал: не хочу. Через что бы Посошков ни прошёл, он оставался человеком из общества, для которого представление о порядочности включало в себя и подпункт «порядочно одет», и невозможность появиться на людях без воротничка или в рубашке на голое тело, а на улице – с непокрытой головой. (По этому случаю Саша мог бы вспомнить собственную семейную хронику и предание о том, как в 1929 году его прабабка, приехавшая на дачу навестить семью сына, молча развернулась и ушла, увидев босые ноги вышедшей на крыльцо невестки.) А на другом краю той же самой жизни, во всяком случае, того же 1929 года, там, где уголовный чад, бушлаты и шапки-финки с развязанными и болтающимися тесёмками, торжествовал тот же самый – хотя и требовавший прямо противоположного – принцип: «всякий порядочный хулиган никогда не будет носить долгополого пальто».
…Да, но как же джинсы?..
Пока Саша («обожди здесь») лежал и покряхтывал, дядя Миша где-то ходил, а вернувшись, привёл за собой двоих: неприметного парнишку и мужчину средних лет, который был приметен вызывающе: поджарый, лысый и с чёрной пиратской повязкой на правом глазу. Этот второй прошёл мимо встрепенувшегося Саши – и Саше на колени упало его имущество, в целости и сохранности.
– Спасибо большое. Как вам удалось?
– Проверьте, всё ли на месте.
Одноглазый устроился на свободной кровати – и как-то вдруг стало понятно, что это именно его кровать, и что свирепый порядок в комнате поддерживается с его подачи. Парнишка оказался попроще, к тому же был в джинсах. Он сразу присел у Саши в ногах.
– Вот Федя, – сказал дядя Миша про парнишку. – Вот Кошкин, – про одноглазого. – Давайте чай пить и друг у друга секреты выведывать.
– Дядя Миша – агент царской охранки, – сказал парнишка.
Саша посмотрел на дядю Мишу.
– Правда?
– Да как сказать.
– Зря вы связались с каэрами.
– Простите, не понимаю.
– Ни с кем из нас не надо бы связываться, – сказал дядя Миша, – но с компанией из тридцать четвёртой комнаты – в особенности.
– …Неужели это они меня ограбили?
– Нет, не они. Им бы ты и сам всё отдал.
– А кто тогда?
– Зачем тебе знать?
– На будущее.
– И зачем тебе такое будущее?
– Это демагогия, дядя Миша, – неожиданно и почти весело сказал Кошкин со своего места. После чего Саша наконец собрался с духом, чтобы к нему приглядеться.
Он был растерян, выбит из колеи и смотрел на самое очевидное, чёрную повязку – скрывающую не только повреждения либо утрату глаза, но и всего человека.
Культурная память услужливо прокручивает картинки с подписями: Слепой Пью, адмирал Нельсон, фельдмаршал Кутузов, – и череду фильмов вплоть до – вроде бы – «Семнадцати мгновений весны», и пока доцент Энгельгардт мучительно вылавливает имя персонажа, который вошёл в кабинет Мюллера и щёлкнул каблуками… была повязка… была или нет?… а ведь ещё есть циклопы и одноглазый скифский народ аримаспов, о котором сообщают Геродот и другие… Лихо предстаёт в образе худой женщины без одного глаза, и встреча с ней приводит к потере парных частей тела… пока он так бессмысленно мучится, его самого изучает здоровый глаз Кошкина, холодный и ясный.
– …Они всё ж таки политы, а не каэры, – сказал парнишка. – Это дядя Миша у нас каэр.
– Извини, Фёдор. Ты просто не дожил до правильной постановки вопроса.
Но и действительно, какая постановка вопроса – правильная? В свою первую отсидку (1929 год, Соловки) троцкист Варлам Шаламов объявлял голодовку, не желая сидеть… «брошенный в концентрационный лагерь в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров»… не желая сидеть с контрреволюционерами и требуя отправки к оппозиции; причём если в середине двадцатых контрреволюционерами считались члены реакционных партий, бывшие царские сановники, белые офицеры, духовенство и иностранцы, а политическими, находившимися на более мягком режиме, до того более мягком, что паёк у них был лучше, чем у дислоцированных на острове красноармейцев, – все социалисты без различия, то для Шаламова уже не было разницы между эсером и царским сановником, и странно, что какую-то разницу он проводил между этими двумя и уголовными. (Ответная реакция: «Политы? – переспрашивает каэр интересующегося. – Какие-то они противные были: всех презирают, сторонятся своей кучкой, всё свои пайки и льготы требуют. И между собой ругаются непрестанно».)