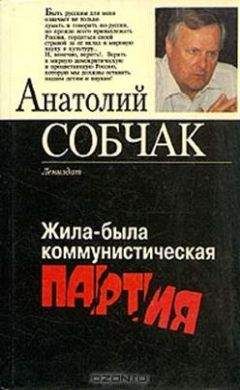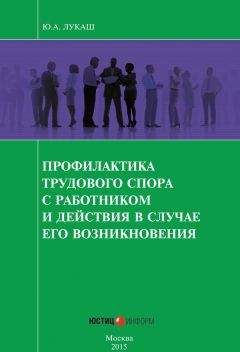– Присоединяйся.
– Да я не умею, – сказал Саша. – Так посижу. Посмотрю, если можно.
Он подумал и не стал рассказывать, как любил в детстве (тайком, нарушая все запреты) проскальзывать за взрослыми спинами в бильярдную курортного посёлка, как до сих пор любит гипнотическое совершенство шаров, бег их блеска по тусклому сукну, ясные или глухие звуки ударов, полумрак и свет ламп, томящий привкус упадка и респектабельной криминальности. Декаданс, деградация, элегантность: казино, перехватив эту роль, играет её в том же стиле и с тем же паническим рвением, что и наши актрисы, субретки в лучшем случае, получившие роли герцогинь. (Нет, только не казино: слишком много денег, шума, женского присутствия, страстей взамен мастерства, битв насмерть вместо игры как удовольствия, и не тончайшие, дымчатые, в дыму и тенях намёки, но грубая, наглая и организованная преступность – в конце концов, «Казино» называется тот фильм, а не «Однажды в бильярдной».) Играть он, впрочем, так и не играл, а теперь не смел сказать, до чего хотелось: кто ж тебе не давал учиться? Пушкин? коммунистическая партия?
– Трудный был день?
– Насыщенный.
– Вижу. Как ты ухитряешься?
«Дурное дело нехитрое», «хотел поближе к жизни», «так вышло». Последний вариант ответа, во всей своей незатейливой честности, трусости, был универсальным девизом Сашиной жизни – был бы девизом, если бы о нём не стыдно было сказать вслух. Потому что гласные девизы – они гордые, яркие, казовые, желательно на латыни или старофранцузском, «честью и верностью», «Богу и Государю», «без лести предан», или вот: «не поколеблет», – звучит же? – если и допускается в них нотка фатализма, то это фатализм с хорошей осанкой, «Твой есмь аз», «Бог моя надежда», не какая-нибудь малодушная размазня… толстый роман можно написать (что и было мастерски выполнено) про девиз Au Plaisir de Dieu… несложно вручить себя попечению богов, когда известно, что не ерунду на палочке вручаешь, не какую-то пакость, хлам, тряпку множественного – и стол протереть, и высморкаться, и коту по морде – назначения; даже если вдруг в глазах Бога французский герцог и такая тряпка равноценны, то как быть с самосознанием – тряпки, и притом вонючей… Остановись.
– Так вышло.
(Или: в те времена, времена девизов, и вонючие тряпки твёрдо знали, что их запах приятно щекочет Богу в носу. В XXI веке Бога обязали не принюхиваться, слово «тряпка» запретили, а вонь, во всём спектре, победили дезодорантами – есть же и моральные антиперспиранты, 48 часов POWER.)
– Сколько в Филькине воскрешённых?
– В самом городе немного, – не удивившись, сказал Расправа и стал натирать мелом кий и пальцы. – Крестьян по области раскидали, детей – по детдомам. Здесь те, кого на землю не спихнёшь: уголовники и умственного труда.
– Уголовники-то откуда взялись?
Уголовники взялись из Москвы и Ленинграда, которые после введения паспортов зачищали от деклассированного и соцвредного элемента. (132 тысячи на 1933 год. Под этот замес угодил поэт Клюев). С потоком раскулаченных они попали на Обь и Васюган, в Нарымский край, и начальство на местах очень скоро принялось слать центральным властям взволнованные депеши о необходимости «прекратить посылку в Западную Сибирь рецидивистов-уголовников ввиду явной непригодности этих контингентов к условиям освоения Севера». Потому как крестьяне что: отрыли себе землянки, накопали кореньев – живут; с деклассированными этот фокус не прошёл. Не приспособленные к труду, на высылку «в тайгу», «за болота», «на кочки» они ответили побегами, убийствами, разбоем и «террором бандитских элементов». (Элементы грабили местное население, а оно избивало их дрекольем.) Попытались локализовать, и так, в частности, появился Смерть-остров, Остров людоедов: за месяц, с 18.05 по 18.06.1933 из шести тысяч человек две тысячи умерли по тем или иным… при расследовании одиннадцать человек были приговорены к ВМН за людоедство… по тем или иным причинам. («…Если бы эти прибывшие деклассированные были выселены не на остров, а на места, то их положение было бы лучше, но для местного населения это была бы могила».) В виде заключительной виньетки добавим, что местное население очень хорошо привыкло греть руки на ссыльных, пока ссылка оставалась неуголовной: политические, крестьяне и лишенцы.
– Откуда ты всё это знаешь?
– С людьми говорил.
– И как люди… реагируют?
– На что?
– Вообще.
– …
– Ты же не думаешь, что их тоже воскресили?
– Кого?
– Людоедов.
– Приветствую, мужчины.
Потом Саша думал, что Марья Петровна вошла в его жизнь громами и молниями, а полковник Татев – соринкой в глазу, которая сперва только раздражает, но очень быстро заслоняет собою всё. Саша посмотрел на Расправу. Расправа был как спокойный, благожелательный шкаф, и в нём за надёжной дверцей хранились порядок, здравый смысл, справедливость… может, конечно, и ствол лежит под стопкой отглаженных простыней, но это такой ствол, правильный.
– О чём вы здесь так мило тёрли?
– О достопримечательностях.
Загадочный человек, оказавшийся всего лишь Олегом, взялся за кий. (Вот ему не мешали ни хромота, ни искалеченная рука, на которую Саша старался не смотреть и всё же смотрел.)
– И какие в Филькине достопримечательности? Краеведческий музей с палкой-копалкой и десятой авторской копией картины местного уроженца Крамского «Незнакомка»?
– Крамской родился в Острогожске, – мирно сказал Расправа. – А картина называется «Неизвестная». – И добавил для Саши: – Смотришь на меня, как будто пень в лесу заговорил.
– Верно, – сказал Татев. – Если бы это был пень в Летнем саду – ну ещё куда ни шло.
– В Летнем саду нет пней, – сказал Саша. – Да и Летнего сада больше нет. А вы, московские, вечно к нам цепляетесь. Первые цепляетесь, прошу заметить. Что у вас самих-то есть получше краеведческого музея? Кремль этот лубочный и алмазный фонд, который вы у нас же и выгребли?
Есть, есть такая московская привычка: попрекнуть музей из провинциального городка его нищетой. Саша, со своей стороны, вступился за филькинское краеведение не потому, что так уж его знал и ценил. (Что он там знал? Как мог оценить.) Он рассчитывал, что в Филькине бережно хранят память об удельных князьях, монастырях, татарах, староверах, первых заводах и народных промыслах; здесь есть подлинники художников XIX века, валенки с вышивкой, братские могилы, усадьбы, где родились великие русские писатели. Можно не быть вовлечённым в эту медленную жизнь, не любить и не интересоваться, но всё же отрадно сознавать, что она есть.
– Ничего. Вот заберём из Эрмитажа импрессионистов, будет и на нашей улице праздник.
От негодования Саша даже на ноги поднялся.