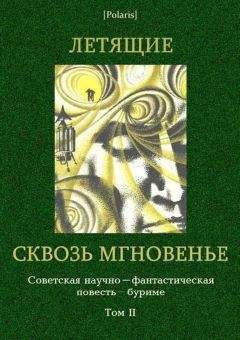Но когда я просила его рассказать что-то о его службе, о войне, он лишь ухмылялся в бороду и начинал одну из своих бесконечных историй, которые то ли сочинял на ходу, то ли живо припоминал.
«Служил у нас в сотне один парнишка из лангобардов. Сотня, понятно, Его Сиятельства Нантская, только в девяностом году потрепали нас хорошенько в Моравии, потрепали велеты как бродячие псы бесхозную свинью, вот и присылали нам пополнение откуда ни глядя — лонгобардцев, гасконцев, даже из Испанской марки попадались. А звали того парнишку Ансевальд [8]. Уж мы над ним смеялись, аж животы гудели — сам тощий, кожа к костям липнет, зубы от цинги повыпадали… Не боец, а скотина падучая, скрептум[9] в руках удержать не мог. Но нам тогда жаловаться на пополнение было — как старухе на ухажера. Любое мясо годилось, лишь бы двигаться могло. Император тогда планировал знатно ударить по велетам на севере, и граф наш Нантский стягивал войска к Вильтенбургу, где затевалась знатная мясорубка.
Сразу видать, что не протянет долго парень, тут, на передовой, и здоровенные нантские мужики, бывало, за час кровью исходили. А этот птенец и минуты бы в бою не протянет. Когда на тебя прут закованные в железо боевые сервусы, да небо над тобой кипит… В общем, загадали мы, что в первом же бою найдет он свой конец. И что ты думаешь, в первой же стычке с велетским механизированным разъездом цепляет он пулю в живот. После такого весь ливер обычно наружу вышвыривает, если повезет — помрешь сразу. Наши коновалы его не глядя заштопали, как лошадиное брюхо, и бросили в обозе. Все одно сдохнет, так хоть не на виду. Лекари у нас армейской школы были, шить и резать умели, а дальше — как Всевышний черканет. Начнется горячка внутренностей, и ступай себе в райские кущи, отмучавшись. Я на этом парне даже пару монет выиграл, угадал, значит. Но проходит неделя, другая, смотрим — а он опять в ряду, серый как смерть, едва ноги волочит, брюхо вдвое тоще предыдущего, потому как на пару локтей кишок меньше, но тащит свой скрептум и живехонек. „Вот те чудо, — думаем, — Никак парнишке на небесах вторую жизнь по ошибке приписали. Однако посмотрим, сколько же ты вытянешь“.
Через два дня на марше накрыло наш авангард беглым осколочным. Подлецы велеты пристрелялись ладно, еще загодя, должно быть. Садят как рыбку в мелком ручейке. Выстрелом по нескольку человек рубят, только щепки летят. Многих тогда перекалечило, и людей, и коней. А Ансенвальд в самой серединке был, где снарядами все поле выкосило, чисто как косой. Как батарею перебили, вернулись мы туда с лопатами — последний долг товарищам отдать. Лекари туда даже и не ходили — там кроме плоти мертвой, дымящейся, ничего и не было. Но слышим стон, и глазам своим не верим — валяется наш Ансенвальд любезный, живехонек, да костерит всех на чем свет стоит. Ему осколком ногу под колено прихватило, да и только. Делать нечего, удивились и отправили опять в обоз.
Догнал нас через три дня, уже на новой ноге, на железной. У нас тогда в обозе один трицикл только под протезы занят был. Оно и лекарям удобнее, отчекрыжило что — раз! — и приставили недостающее в минуту. Удобно. При переправе через Эльбу свезло ему еще больше — оступился с тропы, да и шагнул на мину припрятанную. Думали — на части разорвет, и ногтя не найдешь. Пуля дурная, миновать может, осколок подчас на волосок от сердца пройдет, но с миной — уж извини… Мина шуток не понимает. Только и тут ему свезло — оказалась заржавевшая, протухшая, едва ли в четверть силы бабахнула. И опять вылез он живехонек, только на один глаз ослеп, да оглох сильно — какая-то там внутренность в нем от контузии порвалась.
Кто-то уже собирался ему прозвище дать, Трижды-Покойник, да только я отсоветовал. Чувствовал, что ненадолго прилипнет оно к нему. Так и вышло. Спустя пару дней в трицикл, в котором он ехал, оправляясь от предыдущей своей удачи, угадила болванка из семидесятидвухдюймовки. Экипаж — в клочья, сам трицикл — в труху, у Ансенвальда только пару ребер вырвало да челюсть разворотило. Ну, он и до этого разговорчивым не был, так что не велико горе. Под Вильтенбургом он отличился трижды. Раз ему стрелок веленский пулю в голову прислал, да только скальп снял. Потом на проволоке он повис посреди наступления, дырок в шкуре на три дюжины больше стало. Затем и вовсе чуть голову себе не снял, угодив в волчью яму. И всякий раз латали его лекари и обратно присылали. Не человек, а чудо какое-то. И то верно, на человека он с каждым разом делался похож все меньше, что в нем человеческого, а что железного уже вряд ли бы кто определил. Но смеяться над ним мы давно уже перестали. Напротив, многие просили чтоб он их благословил перед боем, будто капеллан какой. Иные нитки от его рубахи на счастье брали. В общем, заделался он у нас почти как талисманом. Теперь его берегли пуще ока, паче знамени боевого. Один дьявол в первую же зиму он вторую ногу отморозил, затем в реке чуть не утонул, в пожаре чуть не сгорел… Видимо, если уж кому закрыт путь на небеса, тот и лоб расшибет, ан не залезет. Только и его в конце концов нашла старуха с косой. Знать, долго за ним бегала, много сапогов стоптала… Уже после окончания кампании схватил Ансевальд горячку тифозную, два дня бредил, на третий и преставился. Могилу ему насыпали знатную, как префектусу какому. Такое вот дело, Альби. И такое у нас бывало».
Про саму войну Бальдульф никогда не рассказывал. «Чего языком молоть, — отнекивался он, когда я просила рассказать про взятие какого-нибудь города, — Муки-то не смелешь. Кто там был, тот знает, а кто не был — тому ангелы на крыльях сладкие сны принесут».
Когда я проснулась, меня окружала полная тишина, если не считать привычного гула улицы. Город уже проснулся и спешил накормить свою грузную неповоротливую тушу, прогреть свои гнилостные кости на солнце, пропарить едким дымом труб грязные трахеи. Он жил и в его недрах циркулировали тысячи процессов, которые обеспечивали его долгую и, вероятно, бесконечную, жизнь. Уличные разносчики предлагали лепешки из овса и ячменя, кабацкие зазывалы гремели пустыми бочками, мерно дребезжали старые разбитые трициклы, бредущие под окнами медленно и грустно, как околевающие кони. Где-то невдалеке крикнул стражник, грозя кому-то палицей. Завыл голодным зверенком чей-то ребенок. Запричитала старуха. В этом городе, как в огромной клетке, все процессы текли слаженно и соразмерено, и все соки бежали по предопределенным руслам, наполняя его бездумно шевелящейся, кишащей, плюющейся, грязной вшивой жизнью.
Хорошо еще, что наш дом стоял практически на окраине, прилегая к разрушенному после давней бомбардировки кварталу с одной стороны да к фабричным утесам с другой. Здесь было относительно тихо, но даже тут город спешил напомнить о себе, засунуть свою горячую морду в едва приотворившуюся дверь, обдать паром, смрадом гнилых овощей, несвежей рыбы и немытых тел, заводским дымом, терпким ароматом разложения и самой жизни.