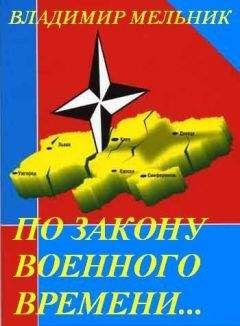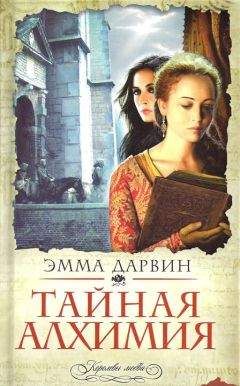своего отца. Но пристальнее всего Мельник пытался разглядеть именно зеленоглазку. Ее он не помнил, но что-то до боли знакомое было и в лице, и в жестах, и в говорке этой девушки. Появились тоска и какая-то безысходность. Они заглушили то безмятежно-радостное чувство, которое до этого испытывал Мельник.
Вдруг видение исчезло. Мельник осознал себя на берегу речки. Волчицы на пригорке как не бывало. «Что это?» — в недоумении размышлял он, сидя теперь уже на речном откосе, обхватив голову руками. Сердце бешено колотилось, внутри бушевали противоречивые чувства. Почему-то снова вспомнилась недавняя утопленница. И на душе сделалось совсем уж скверно. Мельник тяжело поднялся, вытащил стопор из колеса. Привычные мерные звуки постепенно, как и всегда раньше, вернули относительный покой его душе.
Три следующих дня прожил Мельник в страхе и одновременно в непонятном желании вновь увидеть волчицу и попасть в колдовской омут ее зеленых глаз. Чего только не передумал он за это время. То пытался убедить себя, что черная волчица привиделась ему, то верил, что она была, и тщетно пытался вспомнить, кто же та девушка из его гипнотического видения. Жене Мельник не сказал о том, что приключилось с ним тем памятным утром. Стал только еще более молчаливым, часто уединялся и все размышлял о чем-то. Лишь на четвертый день жене удалось немного расшевелить его и отправить из дома на сельский сход, куда допускались лишь взрослые семейные мужчины. В тот день староста предъявил селянам троих подозреваемых в смерти церковной сироты, чтобы определить виноватого и по закону отправить его на виселицу. Пригласили на сход и свидетелей, чтобы при всем народе задавать им вопросы и дознаться до истины.
Подозреваемыми были два молодых парня, Тихон и Федор, которые пытались ухаживать за девушкой-сиротой, и сторож-звонарь храма вдовец Парамон. Первых двух староста уличал в том, что девушка так и не предпочла кого-то из них, и потому каждый мог отомстить и ей, и своему сопернику. Сторожа же многие сельчане часто видели летними вечерами рядом с водоемом, когда в теплой воде купались девицы и бабы. Подглядывал ли он за ними или по каким другим делам там оказывался, они не знали. Но факт такой был, и сторож от него не отказывался.
Прежде чем вызвать каждого обвиняемого на сход для дознания, староста с суровым видом обратился к собравшимся на площади перед храмом:
— Селяне, сейчас будет, возможно, решаться вопрос жизни и смерти кого-то из присутствующих. Я прошу всех помнить, что слово любого из вас может послать невинного на виселицу или отпустить виноватого.
На площади стало совсем тихо. Всех впечатлили слова старосты. Да и его внешний вид всегда внушал некоторый трепет жителям села: густые брови, из-под которых смотрели всегда серьезные глаза, длинные волосы, которые, он, казалось, никогда не стрижет, срастались с густой бородой. Все вместе это внушало страх одним своим видом. Да и ростом его Бог не обидел: высокий, жилистый, подтянутый. Старосту селяне уважали, а некоторые откровенно побаивались.
После того, как староста убедился, что его грозное предупреждение возымело действие на всех присутствующих, первым на лобное место для дознания он вызвал Тихона — одного из сироткиных ухажеров. Это был невысокий, но крепкий, как гриб-боровик, парень с широкими скулами и светлыми глазами, которые сейчас смотрели дерзко и с вызовом.
— Скажи-ка, Тихон, правда ли, что вы с Федором на ярмарке вкровь подрались? — обратился к нему староста.
Народ сразу оживился, вспомнив, как в последний ярмарочный день, в тот самый, когда пропала сиротка, Тихон и Федор так яростно молотили друг друга, что мужики еле-еле разняли дерущихся.
— Правда, — вскинув подобородок, ответил подозреваемый.
— Что не поделили? Подробно отвечай. Да не ершись ты, мы честно разобраться во всем хотим.
Парень помолчал.
— Из-за Насти мы повздорили. Вон он, — Тихон кивнул в сторону Федора, — все хотел покуражиться над Настасьей, покадрить и бросить ее. И в тот раз все гоголем вокруг нее на ярмарке ходил, то пряниками, то леденцами угощал.
Федор же в ответ на обвинения Тихона лишь ухмылялся, щурился и жевал сорванную тут же травинку. И вообще вел себя так, будто и не его хотели обвинить в столь ужасном злодеянии.
— Вот я тогда и не сдержался, — продолжал испытуемый, — когда он уж совсем нагло стал приставать к девушке, подошел и…
— Чем же драка ваша закончилась? Народ говорит, что ни тебя, ни Федора, ни Настасью после той драки и не видал никто. Дня три тебя не видели. Где ты был все это время?
Тихон, словно вдруг вспомнив значение своего имени, притих, опустил голову. Даже в плечах уменьшился словно:
— Настя, как увидела, что мы вкровь деремся, испугалась и убежала. Это мне уж потом мужики сказали, после, как разняли нас. Ну, я решил найти ее и успокоить. Только в ее комнате никого не было. Я вдоль реки решил пройтись, там мы с ней гуляли иногда. Береза поваленная там есть, она часто туда приходила. Но и здесь не нашел ее.
— А дальше?
— Домой пошел, — как-то уж совсем тихо ответил юноша.
— Врешь. Не было тебя дома, — возразил один из мужиков — подручных старосты, — три дня не было. Мы же соседи, отец твой у всех допытывался, где ты. И в поисках ты не участвовал, когда Настасью всем селом по лесу, да на болоте искали.
Тихон молчал.
— У меня он те три дня был — послышался со стороны храма громкий голос.
Все присутствующие обернулись. Тихон тоже вскинулся. В глазах его мелькнуло удивление и надежда.
— У меня он был, — уже спокойнее повторил женщина.
На помост выступила молодая вдова. Невысокая ладная бабенка.
— Что вы так на меня смотрите? С ярмарки я возвращалась, рекой, так ближе. Смотрю, идет, лица нет, рубаха порвана, сам в крови. «Пошли, — говорю, — горемыка, хоть отмою тебя, да рубаху заштопаю». Ну, рубаха негодной совсем оказалась. Помнишь, Василиса, я еще к тебе приходила, рубаху новую просила мне продать тогда. Ярмарка уж закончилась, а я видела, ты три штуки своему Прохору покупала. Продала мне тогда ты эту рубаху. Втридорога. Вот она, рубаха та, на Тихоне, — показала рукой на оробевшего сразу юношу вдова.
Все послушно посмотрели на горящие как маков цвет щеки парня, смущенный взгляд и загалдели:
— Не тушуйся, молодец. Дело житейское.
— А что же ты, паршивец, раньше про Верку нам не сказал, ведь спрашивали тебя, где ты те три дня провел? — спросил юношу староста.
— Ее пожалел. Начнут трепать. А она не такая. Хорошая она. Очень, — ответил тот.
— Ну,