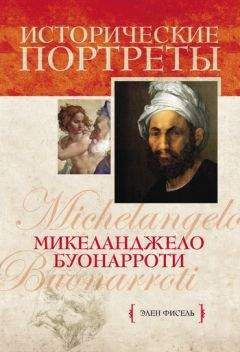— Всякий раз, когда захожу в морг, ломаю голову, — признался я, глядя на заливающегося соловья, — почему твой певец до сих пор не загнулся от холода?
— Морозостойкий потому что, — мрачно изрек Валбер, почесывая кучерявую бороду.
Он действительно пил кофе, как я и предполагал. Лимон, правда, отсутствовал — наверное, Валбер забыл пополнить запас цитрусовых, когда шел на работу.
Птица, не обращая на меня никакого внимания, продолжала надрывать горло.
— Ладно, долгих лет твоей птахе, — сказал я, подходя к столу Валбера, — но сейчас меня куда больше волнует новый труп.
— Ты о гоблине? — вяло уточнил сторож.
— О нем. Давно Гафтенберг уехал?
— Да с час где-то, — покосившись на настенные часы, прикинул Тобиас. — А ты, как обычно, хочешь на тело взглянуть?
— Верно.
— И какой тебе интерес на них любоваться, не пойму… — шумно вздохнув, сторож откинулся на спинку кресла и одарил меня усталым взглядом. — Оставил бы это развлечение судебной медицине.
— Позволь мне самому решать, что и кому оставлять, ладно? — попросил я, стараясь не выказывать своего раздражения.
Когда в Валбере просыпается инстинкт отца, сторож начинает учить меня уму-разуму, чем конечно же безумно злит. Так и подмывает сказать ему что-то вроде: «Прежде чем увещевать других, привел бы ты себя в порядок, приятель». Но я проглатываю обиду, понимая, что ссориться с неряшливым бородачом мне не с руки: встанет Тобиас в позу — и не видать мне доступа к трупам, как своих ушей. Хорошо еще, что Валбер не знает о проводимых мной некромантских ритуалах, не то давно бы сдал меня властям.
— Да решай, ради пяти богов, — отмахнулся сторож. — Мне просто жаль твоего времени, парень. Тебе надо не с трупами, а с девками его проводить — и удовольствия больше, и для здоровья полезней.
— В какой зал его отвезли? — пропустив наставления Валбера мимо ушей, спросил я.
— В третий, — нехотя ответил сторож.
Он конечно же не собирался заканчивать беседу так быстро. Но мне-то какое дело до его намерений? Пусть себе дальше пьет кофе и слушает неугомонного соловья, а я пока преспокойно допрошу цветочника. Мне и надо-то минут двадцать, не больше.
— Номер ячейки?
— Сорок вторая.
— Давай ключ.
Сторож надулся.
— А я ведь не обязан тебя впускать, честно говоря, — заметил он, роясь в карманах.
— Конечно, не обязан. Как и я не обязан отстаивать твое право держать в морге клетку с соловьем, верно?
— Верно… — разом помрачнев, пробормотал Тобиас. — Ладно, держи.
— Вот и славно, — я с улыбкой принял ключ из его рук и, не говоря больше ни слова, устремился по одному из коридоров в направлении белой металлической двери с бледно-красной цифрой «три». В голосе соловья мне почудились осуждающие нотки: видимо, ему не понравилось, как я разговаривал с его хозяином.
А не надо брать на себя больше, чем можешь унести. Если ты сторож, твоя работа — сторожить, а не поучать детектива из отдела убийств, что ему следует делать, а что нет.
Я отворил дверь полученным от Валбера ключом и вошел в третий зал.
Внутри царил промозглый холод. Белые квадраты морозильных ячеек покрывали три стены из четырех; за каждой дверцей был горожанин, со своей судьбой, со своей историей и наследием. Когда-то все они бродили по улицам Бокстона, дышали, улыбались, ели, пили, жили, как им казалось, правильно, по уму — и все равно попали сюда. Что-то пошло не так. Кто-то решил ускорить процесс их отбытия на тот свет своим ножом, мечом, щепоткой яда или пулей, и бедолаги очутились в морге, вопреки собственной воле и предназначению. Тут были учителя, доктора, маги (этих, как правило, устраняли профессионалы высшей категории) и конечно же полицейские (да, нас тоже убивают, и гораздо чаще, чем нам хотелось бы). Пять раз за те четыре года, что я работаю детективом в управлении Бокстона, мне доводилось оживлять ребят, с которыми прежде мы болтали за обедом и делили последнюю оставшуюся в пачке сигарету, стоя у тела очередного покойника.
Еще вчера молодой сержант приподнимает ленту ограждения, чтобы мне легче было пройти, а уже сегодня я смотрю на его хладный труп и готовлюсь к новому ритуалу. Когда парень неуверенно открывает глаза, я с трудом сдерживаю слезы. Когда же он говорит что-то вроде: «Здравствуйте, сэр, а я что, в обморок упал, да?», сила воли подводит, и глаза мои начинают предательски блестеть. Слава пяти богам, что меня в эти моменты никто, кроме покойного, не видит.
На сей раз мне, по счастью, придется беседовать с незнакомцем, что не так уж и сложно, если прежде ты неоднократно поднимал мертвяков для допроса. Поначалу я жалел всех и каждого, позже зачерствел, что, к счастью, не превратило меня в бесчувственную сволочь, но позволило сохранять холодную голову, столь необходимую в работе детектива. Я задавал вопросы — максимально точные и простые, ведь у большинства собеседников мозги были уже мало на что пригодны — и анализировал полученные ответы. В худшем случае я получал приметы убийцы, в лучшем (что конечно же случалось значительно реже) — имя или кличку.
Закрыв дверь на засов, я прошел к ячейке с номером сорок два. Ключ, холодный, как и все в этом морге, легко вошел в скважину. Щелчок. Ячейка открыта.
Действуй, некромант.
Я взялся за выемку в дверце и потянул на себя. Изнутри повалил ледяной пар: морозило, как надо. Когда туман немного рассеялся, я увидел Фег-Фега; брови и волосы его покрывал иней, а кожа имела бледно-зеленый оттенок. Я невольно поежился: все-таки не зря покойникам принято опускать веки — уж больно жутким кажется этот стеклянный взгляд в никуда.
Я достал из кармана гибкий металлический обруч и надел его на голову убитого, осторожно приподняв ее. Затем, сняв с пояса ремень, скрутил им ноги покойного, а руки связал мотком веревки, который как раз для этих целей всегда таскал за пазухой. Покончив с приготовлениями, я отступил на шаг и придирчиво оглядел цветочника. По идее, все. Теперь хотя бы не убежит раньше, чем я объясню ему суть происходящего. По-хорошему, конечно, еще бы кляп в пасть засунуть, но челюсти свело так, что без надлежащего инструмента не разведешь. Ладно, будем надеяться, я докричусь до остатков его покалеченного рассудка раньше, чем он поднимет на уши Валбера и его неугомонного соловья.
— У темной воды, на береге мрачном, — нараспев принялся читать я, — покойники души оставят свои. Живое для них навсегда во вчерашнем, поодаль владыка Покоя стоит…
По мере того, как я декламировал стих, в груди Фег-Фега разгорался магический белый огонек. Сначала это была точка, не больше, чем самая далекая звезда на небосклоне в туманную ночь, но к середине заклятья огонек достиг размеров детского мяча.