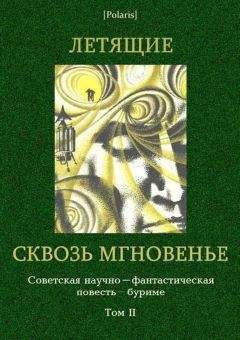Дрожащие пальцы, расплескивающие содержимое кружки, обращались монолитным стальным кулаком, пьяный рассеянный взгляд внезапно фокусировался — и богохульник отлетал на дюжину локтей, точно сбитый с ног копытом быка, выплевывая по пути зубы. Отец Фома нес свою службу бесхитростно, но незыблемо, пребывая в любом состоянии, вплоть до бессознательного. Так как отче денно и нощно обретался в трактирах и прочих злачных местах, а кулак его был сделан из того же металла, из которого обычно льют колокола, нет ничего удивительного в том, что его деятельность на посту добровольного цензора начала приносить плоды.
Однажды он, в одиночку прикончив бочонок рома и не находя сил держаться на ногах, выставил из трактира четырех валлийских наемников, сказавших что-то недоброе про Иисуса Христа, при этом ему приходилось орудовать кулаками прислонившись к стене — не от полученных ран, а от невозможности выдерживать вертикальное положение в пространстве. «Это истинное чудо! — утверждал он впоследствии, с удовлетворением наблюдая следы своих благих деяний на грешной земле, — Святой дух направил мою руку!». Трактирщик хотел было заметить, что Святой Дух вряд ли спустится наземь чтобы заменить ему окна и двери, через которые покидали его заведение богохульники после явления чуда, но счел за лучшее смолчать — чтобы не вызвать ненароком еще одно чудо. Через пару лет сам епископ счел нужным отметить благой вклад отца Фомы в дело установления нравственности в квартале. «В районе резко снизилось количество злоупотреблений именем Господним, — отметил он, — И многие богохульники раскаялись в своем грехах. Несомненно, отец Фома своими проповедями тронул сердца прихожан».
Отец Гидеон был куда спокойнее нравом, но даже очень спокойного человека мои слова могли бы вывести из себя. Однако он лишь вздохнул.
— Альберка, дочь моя… У вас горячий нрав, и вы слишком самоуверенны в суждениях.
— Да, из меня все равно получилась бы паршивая прихожанка, — согласилась я, — К счастью, у меня с вашей организацией слишком много разногласий чтобы вы могли в этом убедиться.
— Вы так не любите Церковь?
— Да, святой отец.
— Почему?
Будь на месте отца Гидеона кто-нибудь другой, вряд ли он дождался бы ответа. «Почему?» — спросил он так просто, что моя едкая тирада, свернувшаяся ядовитой змеей под языком, так и не вырвалась наружу. Это все вино виновато, проклятое, размягчает не к месту, лишает сил, туманит разум…
— Потому что она украла у человечества то основное, что оно имело, — сказала я зло, — Потому что похитила самое ценное, накапливаемое веками. Потому что лицемерно объявила себя спасителем жизни.
— В вас говорит обида.
— Скорее, вино.
— И это тоже… Церковь позволила сохранить все драгоценные знания человека, пронести их через проклятые чумные века, когда сам мир содрогался в адском пламени и готов был сгореть дотла. Когда погибли все книги, все знания и умения наших предков, сожженные бесконечными войнами. Именно Церковь заботливо сохраняла у себя жемчужины знаний, осколки былого наследия, чтобы дать им жизнь в новом мире. Никому больше не было до них дела. Людям требовалось оружие и золото, все остальное их не интересовало.
— Это я уже слышала. Но ведь дело не в этом. Мировые войны давно закончились. Люди поняли, что если огнем будет охвачен весь мир, то он сгорит без следа. Слишком высокая цена даже для того, кто любит помахать мечом. О, мы не перестали воевать. Война — наше любимое развлечение, наша древнейшая игра, и так просто мы ее не бросим. Мы по-прежнему воюем годами, десятилетиями и веками напролет. Мы воюем с кельтами, с велетами, с нормандцами, бретонцами, маврами, сорбами, морованами, ободритами, корсами… Мы воевали бы даже с самими чертями, если бы они вылезли из ада. Когда у нас нет внешних врагов, хоть такое случается нечасто, мы воюем друг с другом. Барон с бароном, граф с графом. Император воюет с мятежными вассалами и замиряет их кровью. Папа Римский объявляет новые Крестовые походы. Иногда вспыхивает мятеж — и тогда сам дьявол не разберется, кто на кого поднял оружие. Война — это наша кровь, отче, наш основной продукт, который мы потребляем безостановочно. Мы так давно поставили ее на конвейер, что уже позабыли, как это — жить в мире. У нас нет мира, есть только вечная война, которая будет длиться до конца времен, до тех пор, пока хоть один человек живет на этой проклятой старыми и новыми богами планете. Мы — истые дети войны, отче, и мы будем биться даже в котлах ада!
— Человек грешен, — задумчиво сказал отец Гидеон, крутя в руках пустой стакан.
Прозвучало это слабо, едва ли не извиняющимся тоном.
— И поэтому Церковь решила не доверять ему карт, а? Поэтому с такой неохотой одобряет для внешнего пользования свои технологии, и с такой же готовностью карает за те, на которых нет соответствующего клейма. Я читала, что были времена, когда Церковь была врагом наук и технологий, это было еще задолго до проклятых чумных веков. Теперь Церковь не просто приняла в себя науку, она и стала наукой! Все ученые носят сутаны, и все лаборатории осенены крестами. Генетики, молекулярные и атомные физики, нейро-хирурги, зодчие электронных машин, инженеры, проектировщики, электроники… Все они стали аббатами, настоятелями, деканами, приорами, кардиналами и диаконами. И в лабораториях им прислуживают аколиты и министранты. Человек, осмелившийся дать миру что-то новое, объявляется злонамеренным алхимиком и еретиком.
— Технологии — это огонь, дочь моя. Этот огонь служит путеводным факелом для человека, дерзнувшего изучить ледяную темноту созданного Господом мира. Без этого огня он погибнет, замерзший и сбившийся с пути. И мы поддерживаем этот огонь, даем ему сил и снабжаем топливом, делая его ярче и теплее. Но в то же время мы слишком хорошо знаем, на что способен человеческий разум, который слаб и беспомощен по своей природе. Мы слишком просто устроены, Альберка. Мы хватаем без разбору то, что нам нравится, и требуем все больше. Мы склонны забывать причины, но не устаем требовать новых результатов. Мы жадны, как были жадны наши деды и прадеды, и первые люди, увидевшие мир до появления огня, и так же жадны будут наши глубокие потомки. Дай нам краюху хлеба, и мы, не рассуждая, схватим ее всю без остатка. Так уж устроен человек. Мы тянемся к тому, в чем видим благо, а дотянувшись, причиняем беды себе и окружающим. Первый пожар вспыхнул тогда, когда человек, согревшийся в огне первого факела, швырнул его в солому своего дома, потому что уверился в том, что огонь — это высшее благо, и захотел, чтоб его сделалось больше. А огонь — это грозная вещь, дочь моя. Он может греть, освещать путь, но он может и обжигать, испепелять.