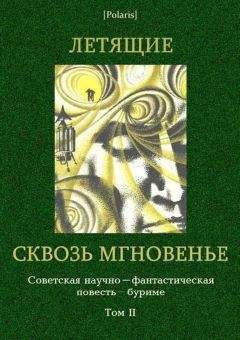Ламберт молча вышел — так же проворно и грациозно, как и зашел. Должно быть, так же он двигался и на поле битвы, перелетая с грацией молодой пантеры препятствия, кромсая огромным вибро-мечом надвое набегающих бретонцев, залитый дымящейся кровью, возвышающийся над всем окружающим — высеченная из обагренного красным мрамора статуя Архангела Михаила…
— Ты была несносна, — сказал Бальдульф, когда дверь была закрыта, — Иногда мне кажется, что твои мозги окончательно отказываются тебе служить.
— Мне было скучно, Баль.
— Я думаю, тебе бы не было так скучно, если бы капитан сообщил хотя бы о толике сказанного тобой центенарию или кому-то из графских слуг. Ручаюсь, что не было бы. Потому что тебя отправили бы в богадельню быстрее, чем апостол Петр снял бы в кабаке шлюху на ночь, а меня бы лишили той пенсии, которую я заработал, оставляя разные части своего тела по желанию графа в разных местах этого срамного мира. Твое счастье, что капитан Ламберт терпелив как агнец.
— Расскажи мне про него, Бальдульф, — попросила я, — Он забавный.
Бальдульф ухмыльнулся. В такие моменты он и верно походил на старого пса.
— Положила глаз, а?
— Не в моем вкусе. Слишком много двигается. Мне бы подошел кто-то с темпераментом вроде моего. Так вы с ним вместе служили?
— Да, я был под его началом. Славный парень. Самый толковый из всех капитанов, пожалуй. Лучшего начальника себе я и не искал. Уважительный, спокойный, знает, чего хочет.
— Беззаветный слуга своего графа, так?
— Как и все они. Люди графа преданы ему беспрекословно. У них это с детства вырабатывают. Еще до того, как вставляют в скелет лишние кости и накачивают таким количеством тестостерона, что у нормального мужика лопнули бы яйца. Но Ламберт… Да, думающий парень.
— И тебе не обидно было служить под началом у человека, который годится тебе в сыновья?
— Альби, ты точно вчера родилась… Он из баронского рода, этих, как их… Забыл, дьяволов. Он может прожить дольше, чем василиск. Операции, консервирующие вещества… И если тебе кажется, что он молод, это не значит, что он и верно молод. За те года, что мы служили, он не изменился ни на волос. Кто знает, быть может ему лет не меньше, чем мне, а?
— Никто, — согласилась я, — Может, он уже столетний старик и сам годится тебе в отцы. И действительно, есть в нем что-то отстраненное, какая-то холодность человека, уставшего от жизни. Но почему стража?
— В стражу обычно отправляются из графской дружины те, кто по каким-то причинам уже не способен держать оружие и служить своему господину на поле боя. Такие, как я.
— Он не выглядит раненным или слабым.
— Значит, у него была своя на то причина. И прекрати лезть в чужую душу. Побольше бы в нашем деле таких, как он, а уж на причины мне точно наплевать. Лучше скажи, для чего ты этот вздор нести начала, про Темный культ?
От взгляда Бальдульфа смущались отцеубийцы, насильники, садисты, наемные убийцы и малолетние шпионы. В нем было, отчего смутиться и мне. Особенно когда этот взгляд упирался прямо в глаза, твердый, холодный и быстро темнеющий, как грозовое облако над спокойной океанской гладью.
И еще хуже то, что от него не скрыться, даже голову не повернуть.
— Просто хотела его позлить, — призналась я, — небольшая проказа, и только.
— За такую проказу, милая моя Альби, случайно проходящий под окнами священник отправил бы тебя, пожалуй, на епископский суд. Где тебе быстро наложили бы Печать покаяния пятого уровня. От Клаудо еще есть толк, но вот парализованные сервусы в этом мире точно никому не нужны.
— Я могла бы быть статуей, — вздохнула я, — Прекрасной статуей юной девы, украшающей палаццо какого-нибудь маркиза или виконта.
— Таких статуй в порту можно на денарий сразу десяток взять, — буркнул Бальдульф, — Клаудо, выключай свет, будем спать! Двадцать три по локальному.
И Клаудо выключил лампу.
«Если кто обвиняет другого, или опечален кем-либо, пусть не таит этого в душе своей, ни пред ближним, ни пред нами. Расспроси, сказано, друга, может быть не говорил он того; и если сказал, то пусть не повторит того»
Святитель Иоанн Златоуст
Когда отец Клеменс учил меня зачаткам теологии и огорчался моему непониманию, он говорил так: «Смотри, Альберка. Мир наш по воле Господа устроен сложно и подчас непонятно. В нем много вещей, которые ты можешь объяснить, но куда больше тех, которые ты никогда объяснить не сможешь, и тысячи тех, которых не смогу объяснить сам я. Но у тебя должно быть представление о нем. Это то, что я пытаюсь тебе дать, дочь моя».
Шуршание бумаги. Треск пальцев. Запах лосьона, которым он пользовался — сладковатый, отдающий несвежими подбродившими яблоками.
«Вещей в мире множество, и ты никогда не разберешь их по ящикам, как бы тебе того ни хотелось, потому что немыслимо определить место каждого божьего творения в той малости, которую мы называем телесной жизнью. Поэтому представь, что все вещи делятся на две категории, два типа — вещи постоянные и вещи изменчивые. Постоянные вещи — это Господь, мир, Император, праведность, солнце… Изменчивые — это облака на небе, похлебка в котелке, вода в реке. Всякой вещи дозволено быть одного типа, и это определяет всю ее суть и всю ее роль. Река будет нести свои воды до тех пор, пока не пересохнет русло. Вековой утес будет вздымать вершины до скончания веков. Человек, рожденный человеком, будет грешить. Чтобы понять вещь, надо наперво понять, к какой категории она относится, и лишь потом пытаться выявить проистекающие свойства. Понимаешь?»
Я понимала. Это было легко. Ведь я была самой постоянной и неизменной вещью в этом мире.
Человек-вещь. Человек-скала.
Я была обречена занимать в пространстве одно и то же место. Наверно, в этом можно было бы найти какой-то философский подтекст, от которого отец Клеменс пришел бы в восторг, но я предпочитала не делиться с ним подобными мыслями. Я была мыслящей вещью в мире людей, вещью, которая умела делать только то, что умеют делать все вещи — ждать своей участи. Вещи не жалуются. Вещи не просят. Вещи не нуждаются в чьем-либо участии. Они просто лежат там, где их оставили. Понемногу стареют, приходя в упадок. Некоторые вещи бережно вкладывают в альбом и спрыскивают духами чтобы потом, в минуту острой, как не наступивший оргазм, ностальгии, вынуть на свет божий и обронить блеснувшую фальшивой жемчужиной слезинку. Другие выбрасывают без жалости.
Меня не выбросили.
Запах перезрелых яблок, такой густой, что кажется липким щупальцем, которое проникло в мою носоглотку и теперь копошится там.
«А теперь мы повторим „Gloria“[2], на которой остановились вчера. Давай же, Альберка, подсказывай мне».