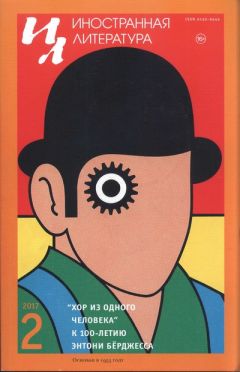К руке прикоснулось что-то теплое. Я вскрикнула и отпрыгнула.
— Сиэт-ту, — рассмеялся Ранх-ба, — это же я.
— Прости, Ранх-ба, я испугалась, сама не знаю чего.
Мы сели рядом.
— А, знаешь, это ведь и хорошо, и плохо, что ты здесь. Я думал о тебе.
— О нашей первой встрече? Это была моя самая большая ошибка.
— Почему? — промурлыкал он.
— Потому что… ты сам знаешь почему.
— Ты не хочешь повторять ошибок? — заглядывая мне в глаза, спросил он.
— Это как посмотреть.
— За чем же дело стало? Пату не будет ещё очень долго. В тюрьме жизнь не заканчивается.
— Я не смогу смотреть тебе в глаза.
— Что? — Ранх-ба залился громким, нервным смехом
— Я боюсь мне очень страшно, и стыдно.
— По мне это не отговорка, — недовольным тоном говорил Ранх-ба.
— Ты не любишь меня.
— Да. И мы оба это знаем. Раньше это никогда нам не мешало. Ни в чем, — помолчав, добавил он.
Я молчала.
— Все ещё сохнешь по мне? — с деланным удивлением спросил он.
Я продолжала упрямо молчать.
— Мне очень приятно это. Но ты ведь знаешь…
— Знаю, — сказала я. Горло свело судорогой, и фраза оборвалась.
— Ну же.
— Как будто тебя всегда волновало мое мнение, — скрывая волнение и страх, рассмеялась я.
— Это ты сейчас ломаешься. Набиваешь себе цену. Но ты никогда не могла сказать мне: "Нет". Ты всегда была моей собственностью, — тихо с нотками ярости, так хорошо мне знакомой, сказал он.
Меня трясло.
— Тэнгет(поцелуй), — сказал он.
Я молчала, наклонив голову.
— Тебе ведь холодно и страшно, — глубоким голосом заговорил он, звуки доставали до самых глубин души, — со мной тебе будет тепло и спокойно, никто тебя не тронет.
В глазах все мутно было от страха. Я сделала последнее усилие сопротивляться, но все было тщетно. Я сдалась, роняя слезы, проклиная себя, я сдалась.
Перед кормежкой принесли Пату. Он был натянуто бодр и даже пытался шутить. Заметив, что я плакала, он спросил:
— Что случилось Сиэт-ту?
— Все хорошо, Пату.
— Все было бы ещё лучше, если бы ты не разводила мокроту.
— Отстань от нее. Сам знаешь: девчонки любят поплакать, — ответил из угла Ранх-ба. От звуков его голоса меня передернуло. Пату посмотрел на него недоверчиво.
Принесли еду. Ранх-ба в мгновение проглотил кашу и принялся долбить каблуком по ручке ложки.
— Как думаете, а им не покажутся странными эти звуки из камеры? — спросила я.
— Какие звуки? — спросил Ранх-ба.
— А то ты беззвучно колотишь по ложке, — отрезал Пату.
— Я думаю им все равно, — отозвался Ранх-ба.
— А если доложат следователю? — спросила я.
— Ни наши разговоры, ни все что делается в камере, они не слушают, — между делом сказал Ранх-ба, — Сиэт, ты сама мне говорила, ещё там, на воле, что один чудак пытался убежать, его хотели упечь, дать более суровое наказание, а он сказал своему Следователю, что его схватили, так как прослушивали разговоры в камере и донесли. А это противоречит какой-то там статье Закона. После чего его отпустили, а Чено-Леко, которые были в этом замешаны, были приговорены к высшей мере.
— А что это за высшая мера? — спросил Пату.
— Ши-ранх, ты меня убиваешь. Ты год здесь сидишь. Высшая мера — вечность в одиночной камере здесь.
— Так вот о чем Сиока намекал мне на допросе, — воскликнул Пату.
Ранх-ба потрогал острый конец ложки, подошел к окну и попробовал, потом посмотрел что-то и пробормотал:
— Надо бы тоньше.
— Что ты там нашел? — поинтересовался Пату.
— Так, ничего особенного, — задумчиво пробормотал Ранх-ба, — посмотри, крайние решетки плохо припаяны, начну, пожалуй, с них.
Ранх-ба сел, потом вскочил, побежал к окну, и что-то потрогал пальцем.
— Что? — спросили мы в один голос.
— Жаль, показалось…
Ранх-ба положил ложку в тарелку.
— Я устал, если никто не против, я лягу к двери ближе, а ты, Сиэт-ту, в середине.
Пату пожал плечами. Мы поставили тарелки к двери и легли.
Я не могла спать, от усталости болели глаза, но сон не шел. Где-то минут через сорок Пату разбудил Ранх-ба. Они отошли в другой угол и стали шептаться. Я обратилась в слух.
— Му-ранх, объясни мне, что происходит.
— А что? Тебя что-то беспокоит?
— Я знаю, Лаа-Н, она не из тех, кто плачет без причины.
— Поверь у нее достаточно причин. На нее столько всего свалилось.
— Не юли. Причина в тебе. Я это почти знаю. Ты говорил о ней, только без имен. А сейчас я понял, что ты о ней говорил.
— Что я говорил?
— Что есть на свете человек, который никому, кроме тебя не принадлежит. Твоя собственность. Это она, ведь так?
— С чего ты взял?
— А то я не вижу, как вы друг на друга смотрите. Она как раб, ты — сюзерен.
— Ты может быть и прав, — зашипел Ранх-ба, — только знай одно. Она несчастный человек. Полюбила человека, который никогда, никого полюбить не сможет. Я никогда не знал, ни любви, ни жалости.
Пату молчал.
— Я схожу с ума, медленно и верно. Одной своей рабской преданностью, она меня в могилу сведет.
— Ты любишь ее, — сказал Пату.
— Нет, — почти закричал Ранх-ба.
— Тише, разбудишь, — шикнул Пату, — Просто боишься. Ты — трус. Просто-напросто.
— Нет. Она моя собственность, она сама этого хочет.
Послышался шлепок и злой шепот Пату.
— Если ещё раз это… это…повторится. Я лично размажу тебя по стенке.
— Нравится тебе девка?
— Молчи, сволочь, ты понял меня?
Ранх-ба молчал.
— Ты понял меня?
— Хватит читать нотации, — сказал Ранх-ба с ледяным спокойствием, от которого мурашки поползли по спине.
"Сумасшедший", — пронеслось в голове.
— Я вижу, она тебе нравится, но ты опоздал. Она моя.
— Собака на сене, подумай не о ней, так хотя бы о себе. Что скажут о тебе другие люди?
— А где ты видел здесь других людей? Или ты кому-то хочешь рассказать, если выберемся отсюда?
Пату напряженно молчал, а потом выдавил из себя:
— Падаль.
— Давай спать, — сказал Ранх-ба.
Они снова легли.
Кто-то поправил мои волосы. Они вскоре уснули, а я лежала без сна до самого скрипа двери.
Дверь заскрежетала, но еды не принесли: на бетонный пол бросили человека. Я вскочила и подбежала к нему.
Этот человек был мне не знаком, я видела его где-то раньше, но похоже даже словом не обмолвилась, это я помнила точно. Я напряглась и вспомнила, это был человек из цирка.
— Добрый день, — сказал он, — рад, что сидеть будем в приятной компании.
Он тряхнул шевелюрой цвета льна.
Сонные Пату и Ранх-ба вышли из угла.
— О, да вы не одна! — с ноткой легкого, наигранного сожаления, сказал незнакомец, — вас тут много. Тогда будем знакомиться — Ев-Ган-ранх
Мы по очереди назвали свои имена.
— Друзья и родные зовут меня Ев-Ган, а девушки Евту.
Принесли еду.
— Каша из бетона, — удивился Ев-Га.
Быстро проглотив кашу, Ранх-ба пошел к решетке и попытался пилить прутья.
Ев-Га молча и с интересом следил за его действиями.
— Без-на-деж-но, — сказал Ранх-ба в конце часа, отбросив ложку, — прутья тверже.
— А я смотрю, вы бежать задумали, — насмешливо сказал Ев-Га.
— Хотели, — сказал Ранх-ба, поднимая ложку.
— Ты ведь в цирке работаешь? — спросила я, меняя тему разговора.
— А, ты откуда знаешь? Погоди, а это не тебя тогда арестовали в цирке?
— Меня.
Ев-Га покачал головой, словно был чем-то опечален или раздосадован, но хищное выражение так и пропало с его лица.
— Вас арестовали по обвинению в "организованном сговоре против Правителя и Города", — спросил Ев-Га, — я — гражданин другого города, мне сразу предъявили обвинение.
— Скорее всего, — сказала я, — меня так, видимо, за роман.
— Кайше, — сказал Ев-Га.
— Что? — переспросила я.
— По нашему это значит "сестра". Меня арестовали из-за стихов.
— Какие ещё стихи? — спросил Пату. В нашем городе никто стихов не писал, литература вообще была под запретом.
— Я прочту, а вы сами подумайте:
О, третий Рим, тебе пою хулу.
Я о тебе слагаю эту песню,
Ты язва, что в моем уму.
Прекрасный памятник, прекрасному безчестью.
Но рад бы я в обще тебя не видеть.
И каждый раз на сердце бьется страх
Что не смогу любить и ненавидеть.
Что это проживу я лишь в стихах.
Ты, как бацилла, изнутри съедаешь.
Живая плоть, как топливо твое.
Был человек, его уж нет, растаял.
И только черное кружится воронье.
Ты стольких свел с ума, убил и обесчестил.
Подумай, такова ль твоя судьба?
Прекрасный памятник, прекрасному бесчестью.
![Лана Тихомирова - Работа над ошибками, или Грустная грустная сказка [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)