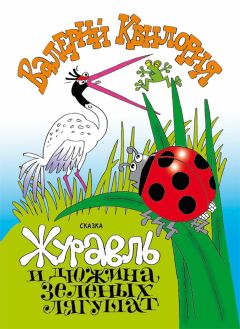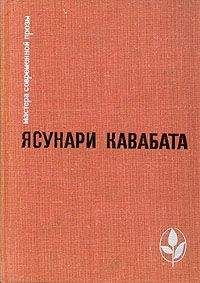Стараясь ни до чего не дотронуться, Каойльн осторожно просочился внутрь. Фыркая и мотая башкой, кобыла вошла следом. Финна и Амина на всякий случай упятились подальше к стеночке. И прижались к камню – никому не хотелось получить копытом. Даже обученные лошади беспокоились в подползающей темноте, прядали ушами и могли с перепугу лягнуть стоявшего сзади.
Каид – молоденький, со степняцкими, как и все здешние гвардейцы, чертами лица – махнул, чтобы лошадь приняли и отвели вниз.
– Спроси его, старик закончил рисовать… это? – настороженно поглядывая на людей, поинтересовался Каойльн.
– Нет, – мрачно отозвался Тарег.
– Плохо, – тихо сказал лаонец. – Потому что они уже идут.
– Хватит трепаться по-своему, – приказал не понимавший по-лаонски каид. – Пусть он рассказывает, а ты, Рами, переводи.
Из темноты – факелов у дверей они старались не жечь – послышалось звяканье панцирных блях и скрип кожи. Ашшариты поднимались с пола и подходили ближе. Амаргин и Аллиль тоже встали.
Сейчас все выглядели одинаково – люди, сумеречники, мужчины, женщины. Кожаные длинные кафтаны с нашитыми блестящими пластинами, ашшаритские – через грудь – перевязи с мечом и джамбией. Копья дожидались своего часа у стены. Вместе с широкими, удобными при осаде дейлемскими пехотными щитами. Только Финна ни во что не влезла, и ей просто дали чистое, чтоб переодеться. Впрочем, Тарег видел, как ашшариты еще вчера надевали белое под брони. «Ихрам, Святой город – что еще нужно воину, чтобы достойно встретить смерть», – улыбаясь, говорили они друг другу. Их можно было понять: ашшаритский рай по рассказам выглядел вполне уютным местом.
Внизу, в трех сводчатых залах с глубокими бассейнами для сбора дождевой воды сидели и дрожали от страха шестьсот с лишним человек. Сверху на воротах стояли три десятка гвардейцев и восемь сумеречников. Финна с Аминой хихикали и говорили, что их нужно считать за половинок, а вместе они вполне сойдут за одного воина. Ну да, и еще пятеро вооруженных невольников Абу аль-Хайра – начальник тайной стражи жил в соседнем квартале, привел сюда семью и остался с домашними в Куба-альхибе. В самом деле, умирать лучше всем вместе, на глазах друг у друга. На тот свет скоро отправится большая толпа народу, а так не придется никого искать и донимать ангелов вопросами: где там дети, да жена, да отец, знаете ли, он у меня хромает, не отстал ли, на небеса путь долгий…
Остальных лаонцев разобрали по отрядам. Сотня человек во главе с шихной засела в цитадели – туда под завязку набилось народу из окрестных кварталов. Пятьдесят держали водосбор на площади у Гамама-масджид – в громадный альхиб запустили девятьсот с лишним душ.
После долгих споров на военном совете решено было не искать убежища от нечисти в мечетях города. Тарег упирался и стоял на своем: масджид ненадежны – слишком много входов, а печать Али над дверью легко разбить. Хотя бы камнем из катапульты. Орали все до хрипоты, но Абу аль-Хайр почему-то поддержал нерегиля. Поэтому решено было укрыть людей в подземных резервуарах для сбора воды. В альхибах вода, припасы, узкий вход – что еще нужно тем, кто желает стоять до последнего?
Так что лаонцы шли нарасхват – особенно после прошлой ночи, когда кутрубы из предместий принялись хозяйничать в самом городе. Кутрубы и всякая мелкая нечисть сумеречников обходили стороной. Еще говорили, что ближе к вечеру заметили пару дэвов. Немаленьких.
Еще лаонцев тянули в разные стороны с важной целью: узнать, пройдет или не пройдет сумеречник в дверь, запечатанную сурой Книги или сигилой Дауда.
Все оказалось до смешного просто, рассказывал, утирая пот и кровь – чужую, правда, – Абу аль-Хайр. Он со своими людьми выехал в город рано утром и успел прорваться обратно к Куба-альхибу до заката. Аз-Захири расписал всем спины каллиграфической вязью, поэтому, когда на затылок одному из невольников сиганула гула, тварь с визгом ошпарилась и отскочила прочь. Гула – мохнатая, желтоглазая – бежала за ними, поджимая обожженную лапу, чуть ли не до самого входа в водосбор. Невольник не выдержал и рубанул – и зря, кровь у гулы ядовитая, шрамы на лице от брызнувших капель могут остаться на всю жизнь. От ибн Сакиба они узнали последние новости.
Загибая пальцы, считали мы наших праведников, говорил он, нехорошо улыбаясь. Сигила Дауда наделена могуществом отпугивать нечисть и ограждать от Сумерек, лишь если ее начертала рука истинно верующего. Таковых в Святом городе не набралось и десятка. Когда рыжая лаонская голова упиралась в невидимую преграду в проеме арки, люди бросались к тому, кто написал над ней охранный знак, и, рыдая, целовали полы одежд. Но чаще всего, злорадно скалясь, сумеречники протыкали невидимый смертному зрению покров, как мыльный пузырь, – и с хихиканьем перешагивали пороги и ступени. Тарег так и не смог понять, почему Абу аль-Хайр с таким недоумением рассказал про старенького школьного учителя, чья скверная каллиграфия сумела остановить Эоху-Конька в воротах цитадели. Ашшариты долго кивали и изумленно цокали языками и почему-то молились и просили у Всевышнего прощения – зачем, непонятно. Но и тогда, и сейчас у нерегиля не было времени, чтобы вникать в местные суеверия.
В Куба-альхибе охранными знаками занимался аз-Захири, на пару с толстым, как рисовый колобок, муллой Куба-масджид. Тот степенно, отпихивая какие-то странные тени носками туфель, доплелся до ворот водосбора ближе к вечеру. Ну как степенно – под охраной Тарега с Аллилем. «Я не могу оставить дом молитвы», – упирался он до последнего. «Не отдам на растерзание!» Они выволокли почтеннейшего Абд-ар-Рафи ибн Салаха под руки: над прямоугольным порталом масджид повисло с дюжину черных летучих мышей подозрительно большого размера. Уже на площади мулла сердито стряхнул руки сумеречников и оглянулся: в густеющей темноте твари разевали пасти, перехватывались когтями и, как невиданные мерзкие насекомые, ползли к лепесткам печатей Али. Когда стемнело окончательно, от высоченной, закрывающей звезды громады масджид стали доноситься звуки – словно кто-то что-то грыз. И скрежетал, будто выпиливал или буравил. И время от времени выл – с нездешней злобой, от которой немели пальцы и поднимались волосы на шее.
А самое странное, нигде не было видно самих карматов. То есть прошлой ночью город подожгли в нескольких местах. Абу аль-Хайр сказал, что видел каких-то всадников, похожих на бедуинских, крутились на улицах вокруг рыночной площади и цитадели. Со стен крепости хорошо просматривался вражеский лагерь, вытянувшийся вдоль вади, – насчитали тысячи костров. Но по обезлюдевшему, затаившемуся городу пока бродили лишь твари.
И все терялись в догадках: так кто бьёт из луков по стенам домов на площади? Тарег готов был поклясться сторожевыми башнями запада: в соседних домах хен не обнаруживало ничего живого. Но одного гвардейца, сунувшегося наружу – ему показалось, что кто-то в соседнем доме бродит, – они (или он?) подстрелили. И грамотно подстрелили: били в бедро, не в грудь и не в спину, знали, что кафтан бычьей кожи не осилят. Парнишка истек кровью прямо на площади – не успели быстро подобраться, чтобы артерию перетянуть, да еще гулы набежали. Зато успели втащить внутрь тело, не оставлять же было на растерзание. Теперь Мамед лежал под своей джуббой в длинной стенной нише.
Сейчас все слушали Каойльна – когда стемнело, рыжий сорвиголова уперся на том, что сидеть в норе больше не может, и рванул галопом через весь город: «А посмотреть, что делается, авось не пристрелят, а пристрелят, так горло не порвут, и вообще я висельник, меня ни стрела, ни зуб не возьмут».
– Штурмуют крепость. Люди и твари. Ворота держатся, но в них лупасится какая-то гадина, на двуногую ящерицу похожая, с зубищами в руку длиной и шипастым хвостярой. Визжит и об буквы эти ихние шпарится, аж паром исходит, но лупится, как оголтелая.
Тарег не стал переводить полностью: ашшариты привыкли видеть этих существ иначе. Наверняка и карматы, и осажденные наблюдают черную фигуру с огненными глазами и длинной дымной бородой.
– Ифрит, – коротко пояснил он каиду Селиму.
– Среди этих джиннов мало правоверных, – понимающе кивнул Селим. – Злые они, всегда так было.
Ашшариты вокруг согласно хмыкали. Вот джинны из вади у границ Руб-эль-Хали – те другое дело. Рассказывали, что в масджид тамошних оазисов лет сто назад пришлось строить большие залы: мариды целыми семьями принимали веру Али и с тех пор по пятницам приходят к ночному намазу.
Каойльн отхлебнул из протянутого меха с водой и продолжил:
– К Гамама-масджид я не прорвался: окружена, сплошь люди верхами, а само здание горит. И горит… в общем, скверно оно горит, Рами. Жжет ее кто-то изнутри.
Тарег перевел это, уже поднимаясь на ноги. Выглянув в приоткрытые створы, посмотрел на юго-запад. Селим тоже высунул голову. Гамама-масджид всегда легко узнавалась среди куполов и шпилей. У нее было три разных альминара: маленький тоненький с вытянутой остроконечной башенкой и два новодельных, с филигранной резьбой и затейливыми йамурами. Смигивая, Тарег долго таращился на горизонт – привычных очертаний он не видел. Потом услышал, как Селим ахнул: