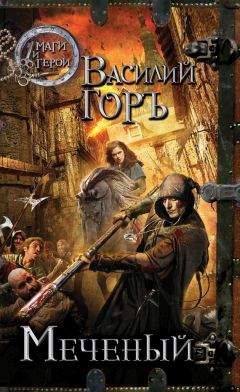– Слышь, мужчина! Ты обещал довести меня до ключа за десять минут, а мы идем уже больше часа. Может, ты заплутал? А, следопыт?
Последние полгода брат бредит славой величайшего следопыта всех времен и королевств, поэтому моя издевка режет его без ножа:
– Мы на месте! Уже давно! – возмущенно восклицает он. – Просто я проверяю, насколько ты пуглива…
– Ну, и где твой ключ?
Волод хватает меня за руку и волоком тащит куда-то вправо. Прямо сквозь здоровенный куст лещины. Потом замирает и ехидно спрашивает:
– Слышишь?
Журчит. Вода. Где-то совсем рядом.
Вырываюсь и иду на звук. Облизывая пересохшие губы сухим, как прокаленная на сковороде соль, языком. И почему-то мечтаю не о лице суженого, а о вкусе холодной, как лед, воды.
Вот он, Ключ Прозрения! В ложбинке между корней могучего лесного великана, спрятавшегося в самом центре Черного гая. Малюсенькое зеркальце воды, в котором можно увидеть того, кто разделит с тобой Жизнь.
Не всегда, а только раз в году. В час, когда Ночь Темной Страсти готовится смениться новым днем.
Опускаюсь на корточки, перебрасываю косу за спину, наклоняюсь к воде и опять ловлю себя на мысли, что просто хочу пить.
Нет, не просто – что ХОЧУ ПИТЬ! Безумно!! Что готова продать душу Двуликому за один-единственный глоток воды!!!
Мысль о продаже души Богу-Отступнику, мелькнувшая на краю сознания, отчего-то не пугает. Ибо вода – вот она. Передо мной. На расстоянии ладони от губ…
Склоняюсь еще ниже, вытягиваю губы…
…и просыпаюсь.
Осознав, что это был просто сон, плачу. Без слез… Потом захожусь сухим кашлем и замолкаю – пересохшее горло невыносимо саднит.
Пытаюсь пошевелить распухшим языком и морщусь – он еле двигается и так и норовит прилипнуть к небу.
А еще болят глаза – такое ощущение, что под веки насыпали песка.
С трудом поворачиваю голову влево, смотрю на тоненький белый контур, возникший вокруг двери, и криво усмехаюсь: ну наконец-то! Рассвело…
– Пи-и-ить… – доносится из темноты. – Ларочка, дай попить, пожалуйста…
Бездушный. Все еще бредит.
Значит, пока жив.
Усмехаюсь. Заставляю себя встать, на негнущихся ногах подхожу к двери и кое-как отодвигаю в сторону неподъемный засов. Толкаю створку от себя и выглядываю наружу.
Страха нет. Вместо него – равнодушие. Холодное, как вода в Ключе Прозрения. Или дыхание Полуночника: двое суток без капли воды способны высушить не только тело, но и душу.
Делаю шаг, затем другой, смотрю под ноги и… падаю на колени: на узеньких листиках и желтых лепестках гусиного лука[106] – капельки росы!!!
Ползаю по земле, слизываю каплю за каплей и наслаждаюсь непередаваемой сладостью искрящихся на солнце бусинок.
Минуту… Две… Пять… А потом из лесу раздается до смерти надоевшее рычание и визг.
«Волки… – мелькает в голове. – Все еще тут».
Тут же возвращается страх. И я, мгновенно оказавшись на ногах и не отрывая взгляда от блестящих капелек недопитой росы, медленно пячусь к дому.
Задвинув засов на место, я поворачиваюсь спиной к двери и обессиленно сползаю на пол: стая не ушла. Значит, покинуть охотничью избушку, найти какой-нибудь ручей и напиться сегодня я не смогу. А завтра… завтра я умру от жажды.
Закрываю лицо ладонями и чувствую локтями и грудью легкий холодок.
Непонимающе таращусь на собственный камзол и расплываюсь в идиотской улыбке: он мокрый! Насквозь! От груди и до края подола! А штаны – так вообще от пояса и до голенищ сапог!!!
Мигом оказываюсь на ногах, раздеваюсь до нижней рубашки и, нащупав самый влажный участок ткани, скручиваю ее жгутом. А потом припадаю к ней губами.
– Пи-и-ить…
Вздрагиваю, как от удара. Пялюсь в темноту. Потом опускаюсь на пол рядом с Бездушным и осторожно прикасаюсь ладонью к его лбу.
Кожа сухая и очень горячая.
В памяти, как по заказу, всплывает фраза из заученного наизусть «Жизненника»[107]:
«При длительном недостатке живительной влаги человек начинает испытывать жажду. Сначала у него пересыхают губы, рот и язык, потом сухость стягивает глотку. Через двое суток начинается жар. Биение жил на шее, запястьях и в паху учащается, кожа становится сухой и очень горячей. Появляется лихорадочное возбуждение и беспокойство. Человек может впасть в забытье и начать бредить. Если такое состояние продолжается еще сутки, то наступает неминуемая смерть…»
– Он умрет… Сам… – с кривой усмешкой шепчу я. – За ним – я…
А через мгновение с ужасом понимаю, что моя рука уже прижимает мокрую ткань к его губам.
– Спасибо, Ларка… – шепчет Кром. И у меня обрывается сердце: в его голосе я чувствую ЛЮБОВЬ! Ту самую, настоящую. О которой мне столько рассказывала мама.
Закусываю губу и невидящим взглядом таращусь во тьму. Пытаясь как можно точнее вспомнить то, что брат Димитрий говорил о слугах Двуликого. Вернее, об испытываемых ими чувствах:
«Бездушные – это оболочка, несущая в себе отпечаток воли Бога-Отступника. Живое воплощение его желания убивать. Поэтому они испытывают только половину чувств, доступных обычному человеку. И эта половина – темная.
Злость… Бешенство… Отвращение… Презрение… Ненависть… – слуги Двуликого живут и дышат Тьмой. И в этой Тьме нет ни одной светлой искорки.
Как бы вы ни старались, Бездушные никогда не почувствуют ни нежности, ни уважения, ни любви, ни сострадания. Они ненавидят даже своих родных – мать, которая подарила им жизнь. Отца, чья кровь струится в их жилах. Детей, которых они породили. И эта ненависть выжигает их изнутри.
Не ищите в них Света. Ибо его в них нет».
«Не ищите в них света. Ибо в них его нет», – мысленно повторяю я. Потом склоняюсь над Кромом и смотрю на его лицо, пытаясь найти на нем отблески души[108]…
Вертикальной складки между вечно насупленными бровями нет. Куда-то делись и морщины вокруг рта. Обычно плотно сжатые губы расслаблены и жадно тянутся к влажной ткани.
Взгляд падает на жуткий шрам на его щеке. Пугаюсь. А потом мысленно усмехаюсь: это не отблеск души, а след пережитого.
Кадык, обтянутый кожей, дергается вверх-вниз, и я снова слышу горячечный шепот. На этот раз не мольбу, а утверждение:
– Какая ты у меня красивая…
Отшатываюсь. С ужасом вспоминаю, что сижу в одной нижней рубашке. Вспыхиваю… и криво усмехаюсь, сообразив, что это говорится не мне. А той самой Ларке, о которой он бредит все эти двое суток.
Снова склоняюсь над его лицом и, подумав, выжимаю на его губы еще одну капельку воды.
– Спасибо, Ларка… – снова хрипит Кром. А потом открывает глаза.
В них – Бездна. Бездна благодарности. И такая искренняя любовь, что у меня захватывает дух и начинает щипать глаза.
– Еще… – просит Бездушный. – Хотя бы глоток…
– Воды нет, – выдыхаю я. – Совсем. Это – роса. С моего камзола…
Взгляд тускнеет. Губы сжимаются. А между бровей снова появляется глубокая вертикальная складка.
– В балке… родник…
– Там волки…
– Ясно… – одними губами произносит он и затихает.
Ненадолго. Минут на десять. Потом осторожно перекатывается на правый бок и пытается встать.
Превращаюсь в слух: при таком количестве незаживших ран он должен стонать от боли. Или хотя бы скрипеть зубами!
Ан нет – молча становится на колени, встает, поправляет чекан и шагает в угол. К здоровенному сундуку, окованному железными полосами.
«Поднимет крышку – начнут кровоточить раны…» – мысленно вздыхаю я, вскакиваю на ноги и успеваю помочь до того, как он до нее дотягивается.
– Спасибо, – шепчет Кром. С самой настоящей благодарностью! И не к какой-то там Ларке, а ко мне!!!
«В них нет Света? – ошалело спрашиваю себя я. – А это что?!»
Он нагибается. Медленно-медленно достает из сундука гнутый котелок, выпрямляется и, пошатнувшись, поворачивается к двери.
– Ты куда? – спрашиваю его я.
– За водой…
И улыбается.
Неуверенно.
Так, как будто не делал этого с самого детства.
Глава 19
Кром Меченый
Второй день первой десятины третьего лиственя
Три из четырех переметных сум, позаимствованных мною у вассалов графа Варлана взамен наших, сгоревших вместе с постоялым двором, оказались разодраны, а их содержимое – разбросано по поляне. Впрочем, большая часть их несъедобного содержимого не пострадала. Да и съедобного – тоже: волки не позарились ни на сверток с вареной репой, ни на десяток головок чеснока, ни на полотняные мешочки с крупами и зерном. А также не тронули склянки с целебными мазями, связки арбалетных болтов и инструменты для ремонта сбруи. Зато вымазали в крови почти всю сменную одежду, погрызли кожаные фляги с водой и вином и сожрали все вяленое мясо, овечий сыр и вареные яйца.