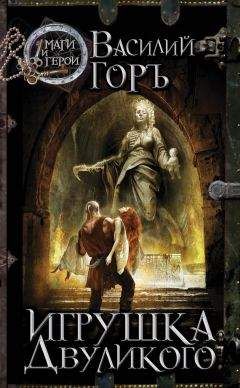Ну а рассказ об Испытаниях последних трех месяцев жизни Бездушного вверг жреца в состояние, близкое к благоговению – парень, некогда выгоревший дотла, ожил! И не просто ожил, но и научился вкладывать душу в каждый свой Шаг!!!
…В воспоминаниях о последних десятинах его Пути Арл копался часа четыре. Нет, не для того, чтобы найти в них какой-то изъян, а чтобы понять, откуда в человеке, с самого детства одержимом одним-единственным желанием отомстить, столько врожденного благородства. Ответа не было: мальчишка, воспитывавшийся сначала кузнецом, а потом самым обычным Головой гильдии Охранников, даже в самых сложных ситуациях вел себя, как урожденный дворянин.
В какой-то момент, отчаявшись найти первопричину, жрец приказал Крому рассказать ему о самых запомнившихся беседах с Роландом Кручей.
Первые три или четыре куска воспоминаний ничем не удивили – Голова, пытавшийся вырастить из подающего надежды Первача что-то вроде своей правой руки, предельно добросовестно вбивал в голову мальчишки особенности понятий «уважение», «долг» и «честь». А на пятом, услышав пусть и слегка переделанную, но все-таки знакомую цитату, Арл прозрел: чуть ли не в каждой фразе Кручи проглядывало то или иное Слово трактата «Об отношении к равным по духу» Игенора Мудрого! И иногда – фразы из его же «Бесед о Пути Воина»!
Шестой или седьмой отрывок прошлого это подтвердил.
– …Почему. Ты. Не отказал? – сдвинув густые брови к переносице и чеканя каждое слово, мрачно поинтересовался Роланд.
– Он – глава купеческого дома. И заказчик этого листа… – выдавливая из себя слова, ответил Кром.
– И что с того? Ты уверен в том, что его возок должен стоять именно в том месте?
Меченый уверенно кивнул.
– Значит, ты был ОБЯЗАН настоять на своем! Ибо здесь, в дороге, Лейр Коверен всего лишь ОХРАНЯЕМОЕ ЛИЦО!
Парень набычился и, выражая свое несогласие, пожал широченными плечищами.
– Та-а-ак… – протянул Круча. – Давай по-другому! Скажи, что ты сделаешь, если во время боя увидишь, что единственный способ спасти жизнь охраняемому тобой дворянину – это сбить его с ног?
– Собью…
– А если под ногами – снег с грязью? Или лужа крови?
– Собью. Иначе умрет… – буркнул Меченый.
– Ночевка – часть того же боя. Только выглядящая менее опасно. Именно поэтому мы, охранники, ставим повозки не абы как, а в единственно верном порядке. И твои действия в этот момент столь же важны, как и сбивание с ног для спасения от смерти…
– Я это понимаю. Он – нет…
Роланд пожевал ус, потом подошел к Крому вплотную и, уставившись ему в глаза, еле слышно сказал:
– Путь Меча – это путь Выбора. Как в бою, так и в жизни. Если считаешь, что твой выбор верен, – не отступай и не сдавайся. Ведь взяв в руки оружие, ты УЖЕ обрек себя на смерть, а того, кто умер, испугать невозможно…
«Он умер. Причем уже давно… – прикрыв слезящиеся от усталости глаза, подумал Арл. – Поэтому делает только то, что считает верным…»
…Кром пришел в себя как-то сразу, рывком. И тут же уставился на Арла:
– Что скажешь?
Не без труда выдержав немигающий взгляд одного из лучших слуг Двуликого за все время существования Храма, жрец неторопливо поднялся на ноги и склонил голову в жесте уважения:
– Ты прошел свой Путь полностью…
Тоненькая кожа, стягивающая лицо Крома там, где некогда были губы, растянулась в жуткую улыбку:
– Когда я получу обещанное?
«Ну да, воин… Ни тени сомнения в правильности сделанного выбора… – мрачно подумал Арл, вытер о сутану вспотевшие ладони и сжал висящий на груди медальон.
– Ты предстанешь перед Двуликим в эту полночь…
– Я тебя услышал… – облегченно выдохнул Меченый, встал с кресла и скользнул к двери.
– Ты куда? – зачем-то спросил Арл.
– На речку. Ополоснусь… – не оглядываясь, ответил Кром. – Хочу уйти чистым. И душой, и телом…
Глава 35
Баронесса Мэйнария д’Атерн
Четвертый день четвертой десятины третьего травника
…Крошечный мотылек, вот уже целую вечность порхающий надо мной, бесподобно красив – ярко-оранжевые крылышки, трепещущие при каждом взмахе, кажутся язычками пламени, отправившимися в самостоятельный полет.
Смотреть на него приятно и чуточку грустно: в отличие от меня, он совершенно свободен и при желании может лететь туда, куда ему вздумается – выскользнуть между неплотно прикрытыми створками окна или в щель под дверью и покинуть эту юдоль скорби и смерти.
Может. Но не покидает – взмывает к мощной балке, поддерживающей потолок, некоторое время кружится вокруг грубого колеса[229], висящего на почерневшей от времени цепи, а затем вдруг устремляется вниз, к столешнице. Вернее, к танцующему на сквозняке огоньку мерной свечи.
«Осторожно, сгоришь!!!» – мысленно вскрикиваю я и облегченно перевожу дух – почувствовав жар, поднимающийся от пламени, беспечный летун судорожно взмахивает крылышками, на миг замирает в воздухе и, развернувшись на месте, торопливо уносится к дальней стене.
Устало улыбаюсь, провожаю его взглядом и… холодею от ужаса: счастливо избежав одной опасности, мотылек вот-вот влипнет во вторую – в здоровенную паутину, затягивающую угол между стеной и потолком!
Влипает. Почти в самую середину. Сначала одним, а затем и вторым крылом.
Перевожу взгляд вправо, на темно-серое пятнышко, торопливо бегущее по толстой серебристой нити, невесть в который раз за утро пытаюсь шевельнуть хотя бы рукой и, поняв, что все еще не в состоянии, закрываю глаза, чтобы не видеть финала разыгрывающейся трагедии.
«От судьбы не убежишь…» – мелькает в голове, и я, горько усмехнувшись, проваливаюсь в прошлое…
…То, что грязно-серая полоса, стремительно уносящаяся вправо, это размокшая от дождей земля, я понимаю не сразу, а только тогда, когда замечаю заляпанный бурыми пятнами носок сапога, стремя, округлый бок, покрытый коротким рыжим волосом, и мелькающие копыта.
Пытаюсь вывернуть голову, чтобы рассмотреть хозяина сапога, и на миг слепну от дикой, ни с чем не сравнимой головной боли, одновременно простреливающей оба виска.
Схватиться за голову почему-то не получается. Закусить губу – тоже. Ошалело прислушиваюсь к своим ощущениям и вдруг понимаю, что мои руки связаны за спиной, а во рту – хейсарская узда![230]
«Унгар?!» – мысленно вскрикиваю я и зверею. Но как-то странно: несмотря на безумное, всепоглощающее бешенство, выжигающее душу, разум остается холодным, как лед. И позволяет мне не только мыслить, но и чувствовать окружающий мир. Причем в несколько раз острее и сильнее, чем обычно.
Первым усиливается обоняние: я не просто ощущаю выворачивающий наизнанку смрад, но и выделяю в нем тошнотворные запахи гари, крови, нечистот, лошадиного и человеческого пота, а также знакомый аромат отвара алотты, которым меня, скорее всего, и опоили. Со слухом творится то же самое – я слышу перестук копыт двух коней, спокойное дыхание Унгара и хриплое – его спутника, позвякивание сбруи и многое, многое другое.
Увы, у такой остроты ощущений есть и свои изъяны – я вообще не чувствую связанных рук и ног и четко понимаю, что сейчас не способна не только воспользоваться своим шаммором, но и просто стоять в вертикальном положении!
«Для того чтобы уйти, стоять не обязательно…» – мелькает на краю сознания, и я, поняв, что это состояние ясности – прощальный дар Бастарза, пытаюсь просунуть распухший язык между зубами и уздой. Увы, ремешки затянуты на совесть, значит, возможности откусить язык у меня нет.
Закрываю глаза, некоторое время обдумываю свое дальнейшее поведение и, приняв решение, негромко зову:
– Унгар?!
Говорить с уздой во рту нелегко – деревяшка мешает шевелить языком, а распухший и пересохший язык превращает слова в набор почти бессвязных звуков. Кроме того, за время моего пребывания в беспамятстве деревяшка успела стереть до крови уголки рта, а горло и небо пересохли настолько, что я их практически не чувствую.
Мой похититель понимает. И наклоняется поближе:
– Да, моя латт’иара?
Слово «моя», выделенное интонацией, не задевает – я пропускаю его мимо ушей и продолжаю:
– Мне надо до ветру…[231]
Мелькание серых полос замедляется, а затем в поле моего зрения вплывает и останавливается каменюга размерами с бычью голову.
Невольно задерживаю дыхание и на некоторое время теряю сознание, когда перевернувшийся мир в разы усиливает и без того не слабую головную боль.
Прихожу в себя у Унгара на руках. И на некоторое время теряю дар речи, сообразив, что мои шоссы спущены до щиколоток, колени упираются в грудь, а я вишу над землей в позе отсаживаемого ребенка!