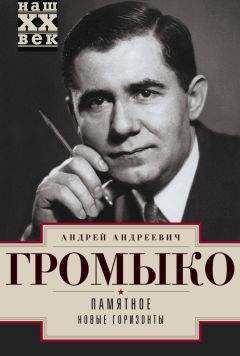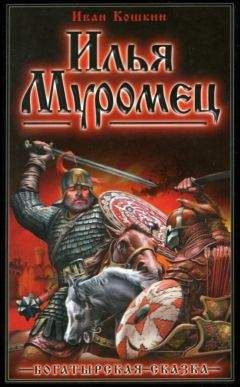Ольга ГРОМЫКО
О бедном Кощее замолвите слово
– Василисушка… – Томно, с придыханием молвил Илья Муромец, «незаметно» передвигаясь тяжелым окольчуженным задом по зеленому пригорку, на вершок поближе ко мне. Слева от Илюши протянулась изрядная полоса примятой травы.
– Чего? – Мрачно буркнула я, отодвигаясь на полтора вершка. Эдак, чего доброго, пригорок и вовсе кончится, и загремлю я с обрывистого берега прямиком в Смородину-реку, а этот недотепа, чтоб его, еще кинется меня спасать и всенепременно потонет в своей двухпудовой броне. Вот уж точно: сила есть – ума не надо. Ну сами подумайте: такой славный, тихий летний вечер выдался, солнышко красное воду в Смородинке до самого бережка вызолотило, лебедушки на стрежне друг перед другом красуются, а он мне тычет пообломанной булавой в Калинов мост, и бает, в каких страшных мучениях подыхало обезглавленное им чудо-юдо. Дескать, «кровища аж до самого тридевятого царства волной в берега плескала». Нет бы рассказать предмету своей страсти баснь о далеких странах, о чудесах заморских… на худой конец, объяснил бы, как водяная мельница устроена, а то давно любопытствую, а растолковать некому – батюшка-царь государственными делами занят, третий день пьет в тереме меда хмельные с послами заморскими, бояре сами толком не знают, а сестрицам моим сие неинтересно. Им лишь бы наряды примерять да в тех нарядах перед царевичами-королевичами красоваться. На худой конец – перед богатырями вроде Муромца юбками вертеть. А от него, между прочим, так потом разит, что только у реки на ветерке сидеть и можно. И в бороде капуста из щей позапутывалась. Ну вот, теперь еще обниматься полез! А ручищи-то волосатые аж до самых ногтей, ногти пообломанные и грязь под ними позапрошлогодняя пластами лежит, хоть ты паши да пшеничку сей. Еще приснится ночью, подушкой не отмашешься!
– Ты чаво?!!! – Реву я грубым голосом деревенской девки, запоздало смекнувшей, зачем пригожий молодец позвал ее в амбар. – А вот батюшке скажу, он ужо тебя!
Врал, наверное, про чудо-юдо. Испугался царского гнева, аж поджилки затряслись. Дескать, я его «неправильно поняла», он, видите ли, только «комарика зашибить» намеревался. Да к нему комарик на версту не подлетит, упадет замертво!
О, наконец-то! Нянюшка с чернавками идет! Думали, я тут за три часа зазябну и к груди богатырской прильну погреться? А шиш вам! Пусть лучше меня насквозь ветром продует, комары заживо съедят, а к Муромцу на плечо голову не склоню, не дождетесь!
Как же мне надоели эти богатыри, царевичи, королевичи, боярские детки, одни другого ядреней… У батюшки семь жен, тридцать дочек, чего он ко мне прицепился? Видите ли, «самая удалая, самая любимая, вся в него пошла». Вот пусть сам замуж и выходит, раз вся в него! Какая царевичам-королевичам разница, кого в жены брать, лишь бы полцарства за ней давали, как за мной? К одной шестидесятой они не больно-то сватаются, из двадцати девяти сестер только пятерых на свадебных возках и умчали. Зато – по любви. А есть ли она, та любовь? Мне уж точно не светит, даже лучика не кажет. Сорок сороков женихов за два года переглядела, ни один не приглянулся.
Вот батюшка ругается – мол, уж больно я переборливая, да моя ли в том вина? Взять того же Муромца – только мебель в тереме двигать и гож, с ним цветочки в лес нюхать не пойдешь, в игру берендейскую на клетчатой доске не сыграешь, стихи складывать не умеет, а чужие сказывать начнешь – засыпает. Зато, батюшка говорит, враги нас бояться будут, коль у него в зятьях сам Илья Муромец числится. Как же, держи подол шире! Кто этого Илью боится? Только те, кто его издали видали, близко к врагам он не подходит, чтобы не зашибли ненароком!
Иван-царевич намедни сватался – да у него на лбу написано, что его в детстве из люльки роняли… а люлька та на колокольне висела. Говорят, вся челядь за глаза кличет его не царевичем, а… в общем, не великим разумником.
Васька Соловей зимой сватов засылал. Этого батюшка сам прогнал, еще и Муромца натравил. Оказалось, Соловей под шумок корону запасную, самоцветную, из сокровищницы спер, клеймо вытравил и шамаханам в тридевятое царство продал. Разбойник, что с него возьмешь…
Купец один подкатывал – Емеля Попович, что ли? Принес в подарок щуку трехсаженную, не знали, куда ее деть, ни в одном ларе со льдом не помещалась, так во дворе до весны и провалялась, пока не стухла. Под угрозой лишения головы заставили купца забрать ее обратно, дабы царевы коты не потравились.
Сами видите, выбор не велик, да стоять не велит – семнадцатый годок мне уж стукнул, еще месячишко-другой, и все: обзовут перестарком, не захотят заморские державы через меня с царем Еремеем роднится – коль красная девка о восемнадцати веснах замуж не выскочила, значит, что-то тут нечисто. И будь я хоть трижды Василиса Премудрая, Прекраснейшая из царевен Лукоморских, никто в мою сторону и не посмотрит.
Илья Муромец предпринял последнюю отчаянную попытку вытеснить меня с пригорка, но я резво вскочила на ноги и побежала навстречу нянюшке.
– Ах ты, дитятко мое бедное! – Воркует нянюшка, а сама на Муромца глазом косит: ну как? Растаяло сердечко девичье али сызнова упрямая царевна от ворот поворот дала? – Зазябла, поди? Ручки-то какие холодные… Вот, накинь платочек пуховый, мигом согреешься…
– Нянюшка, да какой платочек? – Возмущаюсь я. – Лето на дворе, с Ильей рядышком сидеть никакой мочи нет – кольчуга на солнце накалилась, так жаром и пышет. Пойду-ка я лучше в терем, скажу чернавкам, чтобы воды в бадью натаскали – ополоснуться.
Нянюшка огорченно вздохнула. Хорошая она у меня, добрая, ласковая, только вот никак в толк взять не может – лучше уж совсем без мужа, чем за абы-каким всю жизнь маяться.
А в тереме – беготня, крик, суматоха! Изловила я за полу боярина, мимо пробегавшего, к ответу призвала. Боярин длиннобородый царевне перечить не осмелился, разъяснил сбивчиво: приехал, мол, к царю Кощей Бессмертный свататься… тьфу, к дочкам царевым, сестрам моим сводным, оттого и переполох великий – Кощей вот-вот явится невесту себе выбирать, а в тереме до сих пор не прибрано, у батюшки-царя борода с обеда не чесана, корона не полирована, речь не заготовлена.
Отпустила я боярина, он дальше побежал, да забавно так: опрометью мчаться чин не дозволяет, челядь засмеет, вот он и старается: спины не гнет, руками не машет, только коленки высоко подкидывает. По мне, так еще смешнее выходит.
Меня в залу тронную не звали – сама мимо стражников прошмыгнула, встала за троном царевым. Сестренки мои сводные уже все вдоль стеночки рядком выстроились, в праздничные сарафаны вырядились, косы золотыми лентами переплели, кокошники жемчужные напялили… было бы для кого! За неполный год сменилось у Кощея шесть жен, больше месяца ни одна не продержалась. Сорок дней, душегубец, в трауре походит, и снова к царским дочкам сватается. Трижды с Берендеем породнился, трижды с Горохом, теперь и до нашего Лукоморья черед дошел. Известно, дочерей у царей – как слив в урожайный год, только успевай с рук сбывать, пока в самом соку и червиветь не начали. На всех не то что царевичей – приданого не напасешься, а Кощей сам за невесту богатый выкуп дает, три пуда золотом, вот цари и рады стараться – отжалеют чернокнижнику пару-тройку детищ бесчисленных, и ладно, а там пусть он их хоть с маслом кушает, лишь бы в зятьях значился. Убыток невелик, зато польза для государства немалая – не полезут на стольный град поганые басурмане, если знают, что сидит-посиживает между градом и степями привольными такой вот Кощей с дружиной. Любимиц-красавиц вроде меня, конечно, Кощеям так просто не отдают, потому и о смотринах известить не удосужились. Не прогнали – и на том спасибо.