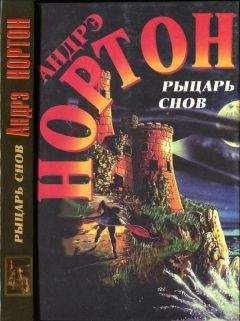В лето 6012 от сотворения мира бысть сие.
Книга Святовита.
…Мороз крепчал. Пронзительно верещал снег под широкими осиновыми досками днища саней. Мохнатая кобыла время от времени всхрапывала, выпуская облака пара из широких заиндевевших ноздрей. Укрытый медвежьей полостью Прокша зябко поёжился. Ушло то время, когда он был молод, и горячая кровь согревала могучее тело. Теперь он стар, уже девятый десяток лет разменял намедни. Болят суставы, тянут жилы сырость и старые раны. Но разум его светел и могуч по-прежнему…
Отговаривали его бабки-вещуньи, потворы и кобники, но не смог ведун усидеть на месте, на тёплой лежанке. Слишком важно было откровение Велесово, что пришло к нему во вторую седьмицу Просинца[1]. Будь что попроще - послал бы вместо себя баяна Векшу, но дело оказалось слишком важным, чтобы слова можно было доверить кому то молодшему и по возрасту, и по иерархии. Не всякого волхвы славянские слушать станут. А уж, тем более, решение своё выносить. А от нынешнего слова судьбы народов зависят. И судьба их. Дадут добро старшие волхвы – изменится история рода славянского. Не дадут – наступит лихая година, и канут в небытие племена. Примет в себя мать-земля погосты и городки, могилы и жертвенники. Истлеют заброшенными изваяния Стрибога и Перуна, Макоши и Берегини. Не принесёт удачливый охотник подношение Диване, уважаемой супруге Святобора, покровителя лесов, коими богата словенская земля. И Лада, мать всех богов, истлеет, покинутая своими народами, коих не сумела сохранить на лике своём…
- Подъезжаем, господине…
Обернулся правящий лошадью отрок, ходящий в учениках у облакопрогонителя Малюты, дальнего родственника Прокши. Старик, открыл неожиданно яркие глаза и сурово кивнул. Юноша невольно передёрнул плечами, словно ему стало холодно. Уж больно не вязались пронзительно синие, словно у молодого мужчины, глаза, с выдубленным солнцем и ветрами, иссечённым глубокими морщинами лицом. Знаменитый на всю округу ведун, переживший столько, что не один баян не в силах измыслить. Видавший и неведомые народы, и чудеса заморские, и прошедший не одну битву рядом с воями. Но возгордился молодой славянин силой и ловкостью, не поклонился Перуну, не дал жертву после удачного похода. Люто наказал его буйный Бог: зимой, в бою кулачном, поскользнулся на наледи муж, ударился спиной о бугорок крошечный вроде, и больше не поднялся. Отнялись ноги, отказались ходить. Навсегда отказались. Чего только не делали с воином, как не врачевали – бесполезно. Высохли обе ноги, стали, словно палки, худыми да тонкими. Понял тогда лишь Прокша, что обидел Бога. Молил его о пощаде, но Перун своё решение никогда не меняет. Скажет – умрёшь. И сложишь свою голову, как бы не старался её сохранить. Так и тут, не стал Перун возвращать умение ходить бывшему воину. Дал ему взамен другой дар, ведовской. Посылал к калике видения, в коих рассказывал то, что будет. Честно посылал. Без обмана и морока. Словно через чистый тонкий лёд речной видел Прокша то, что случиться должно вскоре. И ни разу предсказания ведуна не обманули Славян. Всегда сбывались…
Разное изрекал Прокша. Когда хорошее, когда плохое. Не скрывал, за кем навий Чернобог придёт, а кому Лада улыбнётся. Честен был. За что снискал поначалу уважение у воинов, затем и у жрецов. А ныне везут Прокшу на Большой Собор – волхвам он должен своё Слово изречь. И как примут те Слово, такой и будет Судьба Мира…
- Тпру!
Натянул поводья юноша, останавливая кобылку перед высоким, чуть ли не в три человеческих роста, частоколом. Пред оградой людно было. Много народа из разных краёв варяжских земель съехалось на Большой Собор. Были поморяне из краёв, где Ярило по половине года по небесам гуляет, а вторую половину спит крепким сном. Приехали и с полуденного края, где неведомые племена пробуют откусить себе под пастбища землю, принадлежащую славянским родам. И с восходного края земель явились посланцы, и с заходного. Но не каждый, кто возжелал, может прийти на Большой Собор. Лишь самые высшие, самые знающие, самые могучие. Так что ждать сопровождающие волхвов, ведунов, баянов, ведьм и прочих, за первой оградой должны были. Внутрь же лишь допущенные должны пройти были… Двое могучих воинов, закованные в доспехи с ног до головы, в алых плащах, подбитых пушистым мехом полярной лисы, шагнули навстречу саням, в которых восседал Прокша, и легко подхватили ведуна на скрещённые руки. Почёт и уважение неслыханное! Единственный он, кого на руках на Собор несут…
- Постойте чуть, други.
Замерли мужи на месте. Мгновенная тишина спустилась на людскую толпу, собравшуюся у ворот, ведущих внутрь ограды, увешанной черепами зверей и птиц. А седой, словно лунь, ведун, взглянул на пронзительно чистое небо, на белый нетронутый снег вокруг, на громады елей, затем вздохнул тяжко и шепнул, сберегая последние силы для пророчества:
- Идёмте…
Ибо знал ведун, что речь его на Соборе последней в жизни будет…
…В очаге длинной воинской избы ярко пылал пламень. Длинные языки взмётывались над большими поленьями, аккуратно распущенными вдоль, изредка стреляли искрами. Чист огонь, который горит в сложенной из валунов печи, найденных на дне реки Вожи. Высушенные до звона берёзовые дрова почти не дают дыма. Да и тот взвивается тонкими струями в высоту трубы. Избу в Слободе топят по белому. Сложен длинный дымоход из глиняных пластин, обожжённых до звона. Возле него, под самой крышей, крытой плахами, пущены могучие балки-стропила, которые держат немалую тяжесть скатов и зимнего снега. Вдоль стен из тёсаных брёвен морёного дуба – полати. На них спят воины. Дружина. Могучие мужи, сильнейшие из племени. Те, на кого выбор пал Перунов. Кому Бог дал воинское умение и судьбу непростую. Ибо не каждому дан талан истинным воем стать…
… Нет, как испокон веков заведено, все мужи в племени проходят воинскую науку, начиная с младых лет, едва трава перестаёт коленки дитю росой мочить. Тогда покидает славянин отчий дом, чтобы вернуться в него через долгих двенадцать лет. Или не вернуться. Как Боги возжелают. Ибо может юноша голову свою сложить в бою, либо не выдержать суровой подготовки, а то и от лихоманки сгореть, невесть зачем насланной девой Мораной. Но коли выживет и вернётся – начинается у него другая жизнь, жизнь свободного пахаря-земледельца. Ставит муж избу, рубит подворье. Не сам, вестимо. Построиться то он и один может, но сколько времени уйдёт на такое? На помощь приходят родовичи. И близкие, и дальние. Во время стройки убелённые сединами старейшины исподволь наблюдают за молодым мужем, вернувшимся после ратной выучки. Отмечают для себя, ловок ли тот с топором управиться, не заставляет ли животных тягловых больше положенного трудиться. Потом, когда дом и усадьба готовы, собираются старшины на совет, где и выносят свой приговор – быть родовичу полноправным членом рода, или стать изгоем. А то и проклясть могут, ничего не объясняя. Всякое бывало… Но коли благосклонен взгляд стариков, то приходит из Капища жрец. Кропит кровью петушиной порог во славу Матери Богов, Мокоши Светлой, благословляет нового сородича, и племя поёт ему хвалу. После всего приводят на новое подворье скотину и птицу, набивают амбар зерном для посева, а сундуки – домашней утварью: посудой деревянной, любовно вырезанной долгими зимними вечерами, и глиняной, на круге гончарном сотворённой искусными пальцами. Одеждой льняной и шерстяной, расписанной знаками родовыми, и прочим, что необходимо на первое время молодому хозяину. Остальное сам должен добыть, либо изготовить, а то и выменять, если будет на что. Но через год снова наведаются к нему старики, придирчиво проверят каждый уголок, каждый сундук. Спросят за каждую вещь, что дал ему Род, за каждую курицу, за каждую скотину. Посмотрят, полны ли закрома и кладовые, есть ли заедки-соленья в погребе. Справа воинская, из Слободы принесённая воем, в порядке ли? Показал ли себя добрым, разумным хозяином славянин, или нет? Строг их взгляд, несмотря на возраст, и зорок. Любую оплошность углядят. И вновь соберутся на Совет вечером, станут рядить-судить, думу думать. Всю ночь просидят, а на утро, с первыми петухами пойдут на поле родовича. Ибо по росе видно лучше всего, как тот пахал, как сажал, как ухаживал. Посмотрят, а после - вновь в град возвращаются. И опять в Избу общинную на Совет. Выпьют старики не один кувшин мёда, съедят не один каравай хлеба, а к вечеру, к зорьке закатной, решение своё вынесут – достоин ли воин стать земледельцем, с честью ли станет носить имя пахаря. Руки у него умелы, к братьям меньшим – добр. Нрав – спокойный. Посему – принять в Род… И появляется улыбка на лице мужчины. Ибо больше он не вьюнош[2] бесправный – хозяин! И отныне у него, как и прочих, слово на Сходе Общинном молвить право есть. И обязанности. Пусть в Слободе парень лучший среди сверстников был, но толку что? Мечом махать, из лука стрелять – дело дурное. Не столь почётное, как носить имя Пахаря. Ибо кормить Род большего стоит. А врагов на славянских землях в то время и не видывали. Приходили встарь из дальних земель чужаки, но миром решалось всё. Встречались на поле старшие славян и находников, договаривались. Выделяли чужим земли, благо Славения велика и обильна ими, показывали выборным, помогали осесть, построиться, и корм даже на первый год давали щедро, пока свои урожаи не снимут. Словом, мирно жили. Как и положено. Хлеб – всему голова. Не меч, и не сталь…