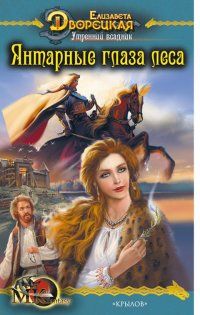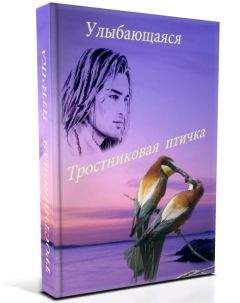За твоей спиной шумит Большая Охота, ты ощущаешь чужеродные запахи и хриплое, сбившееся дыхание нескольких десятков охотников, лошадей, собак. Гончие несутся по следу, стараясь напугать, заставить выбежать на борзых, но кто может напугать тебя сейчас еще сильнее? И бежишь ты не от страха, скорей, от нестерпимой боли и горечи, выжигающей в груди все в пустоту. Вперед, вперед, между соснами, тут проскользнуть под корягой — задержать, удержать, образумить. Скорее, скорее, отталкиваясь лапами от земли, от деревьев, от поваленных стволов, спрятаться, переждать, и все равно уберечь, спасти, защитить. Больно в груди, злые слезы вскипают на глазах: «Как ты мог, милый, как ты мог?! Руки твои теплые, что ласкали водопад волос, губы твои, что так нежно касались моих, глаза твои янтарные — как тот камень, что лежит в покоях мессира, и которым он разрешал играть в детстве. Как же так случилось, единственный?»
Шаг, еще шаг, тут поворот, еще два прыжка и уйти на изнанку миров, а потом скользнуть через рубеж, и схоронится, на неделю, месяц, год — сколько угодно, только чтобы ни словом ни взглядом не выдать. Нет, мессир не заметит, а вот с дядюшкой Хаммуди и сложнее и проще, он простит, конечно простит, пусть не сразу, главное — чтобы в это «не сразу» никто не пострадал. Глупая девочка, глупый зверечек, ведь тебе говорили все — будь осторожна, а ты? Кошкою ластилась, все улыбки и взгляды, песни и танцы, восходы с закатами, все мечты твои и желания, всё без остаточка кинула под ноги. Чтож, не захотел, не люба ему была — так бывает, мог бы просто окно открыть, ушла бы и не обернулась — слезы копить и раны зализывать. Так нет, глупый, мало того, что игрушкою своей хотел сделать, так теперь и сломать решил — чтоб другим не досталась. Знаешь ли ты, любимый, кого гонят псы твои — те, что недавно еще головы узкие, хищные на колени мне клали, руки лизали? Догадываешься ли, единственный?
И опоздала-то всего на стук сердца — замерцал переход изнаночный, выпуская в мир редких тут гостей. Ахнула, отступая, но от этих глаз не спрятаться, и такая печаль в голосе:
— Раравис, девочка, почему ж ты позволила?
Плачь — не плачь, а у всякой игры есть условия.
— Мессир Лазар…
— Отец, Раравис! — крик раненого зверя.
— Мессир Лазар, отец, — поправляешься ты, сбиваясь на мольбу — не губите, не ведал же что творит!
— Не ведал? — взгляд мессира прожигает насквозь, и ты ежишься, — Значит не ведал? Иди сюда, глупая, — и в голосе столько тоски.
Перевоплощаться не велено, поэтому маленьким рыжим зверьком, пять полосок на спине темных, четыре — светлые, ты взлетаешь к отцу в седло.
Охоту выносит из леса, псы рвутся, задыхаются на сворках, кони уже вспотели, блеск нарядов, драгоценностей, перьев, а впереди он — высокий, стройный, черные локоны растрепал ветер, глаза янтарные, черты лица острые, одет в черное — словно хищная птица вран, а плащ, что хлопает за спиной похож на крылья. Но что это? Рядом с любимым, единственным, знакомым до последней черточки беловолосая кукла с фарфоровым личиком, и эта улыбка, от которой ямочка на щеке — не тебе? И только тяжелая рука отца в латной перчатке не дает спрыгнуть с лошади, перевоплощаясь на лету.
Первыми осаживают коней нукеры — еще бы, серебряный штандарт с хищной черной птицею на многих войнах значил крупные неприятности, у них это уже в крови. Аристократы успевают вдвое сократить расстояние до отцовой десятки хошутов, пока, наконец, они понимают, КТО перед ними. Ты, наверное, впервые с глумливой радостью смотришь, как один за другим они спешиваются, чтобы склониться в поклоне. Фарфоровой куколке приходится спешиваться самой — и тебя тонкой иголочкой колет в сердце, ведь милый-то перед лицом опасности позабыл про галантность и этикет.
— Доброй охоты, — глумливо усмехается отец, — кого травите?
— Да девчонка холопская на воровстве попалась, мессир Лазар. Невесть что придумала, графский перстень присвоила, что из поколения в поколение невестам рода Ф'лессанов при обручении вручался.
Ты задушено верещишь под отцовой рукавицей: сам подарил, сам невестой назвал, нареченной, единственной…
— Значит, говоришь, не невеста девчонка та? — уточняет отец.
Ох, нехороший у него голос, от такого слуги в башне по углам разбегаются.
— Да какая невеста, — твой единственный, до боли любимый, скабрезно хихикает, и, набравшись храбрости, подмигивает отцу, — так, ночь на сеновале скрасить.
— Ну раз так, — цедит отец, — то и хорошо.
И вот ты уже сидишь перед отцом в человечьем облике, цепляясь за луку седла, и щуря злые глаза на теперь уже бывшего возлюбленного.
— Вот и разобрались, Раравис, — голос отца полон яда, — я ж говорил — не пара дочери демиурга граф занюханный, а ты заладила, что слово дала. Сама видишь — не нужно ему твое слово, доченька, а тебе — перстень его без надобности. И то — был бы стоящий перстенек, а то вместо бриллианта стекло поделочное, у тебя пряжки на туфельках и то дороже стоят.
— Мессир Лазар? — граф дает петуха, делает два шага в вашу сторону и опускается на колени, — не погубите!
Ты кривишь губы в злой усмешке:
— Поехали домой, отец… А то смотри, как бы этот герой в штаны от ужаса не наделал, пахнуть будет плохо.
И кидаешь перстень в траву перед жалким мужчиной, который более всего сейчас походит на облезлого воробья, чем на боевого врана.
— Иногда, милый, — твой голос жалит надменностью, — люди совсем не то, чем они кажутся.
Ты идешь по бальному залу: фисташковое платье из муслина, расшитого веточками, подхвачено пояском под грудью, квадратное декольте, из под которого проступают фестоны нижней сорочки, рукава-фонарики украшены серебряной сеткой, белокурые волосы свернуты в узел, и только пара локонов падает на беззащитно обнаженную шею и плечо. Перед тобой торопливо расходятся, давая тебе дорогу, склоняя головы в поклоне, и вдруг ты слышишь шепоток:
— Отец, посмотри, какая цыпочка!
В зале наступает мертвая тишина. Ты разворачиваешься в сторону говорящего, в раздражении захлопывая веер — и словно по сигналу несколько мужчин в бальной зале делают шаг вперед, хватаясь за эфесы. И наконец, ты находишь их глазами — граф Ф'Лессан, постаревший за эти десятилетия, и его молодая копия.
Ты иронично поднимаешь бровь.
— Простите моего неразумного наследника, леди Раравис, — граф готов провалиться сквозь землю.
— Ах, это Ваш сын? Это многое объясняет, — фыркаешь ты ядовито, по залу проходит шепоток — нет, ему так и не забыли той охоты.
Ты отворачиваешься от этой парочки и продолжаешь свой путь, и, лишь у самой двери, ты оборачиваешься.