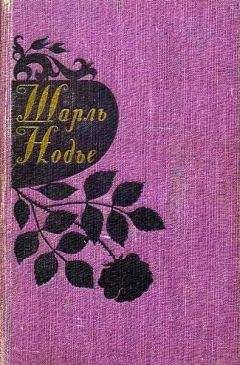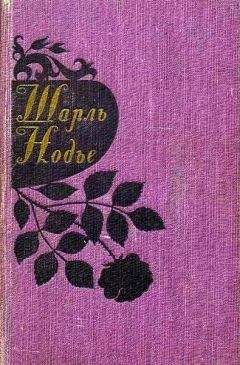— О! У меня здесь был родной кров, дорогое дитя мое, и очень близко от этого берега, но меня жестоко лишили его!
— Тогда мне понятно, добрый старец, почему вы пришли к аргайльским берегам. Нужно оставить там очень нежные воспоминания, чтобы в это время года, в такой поздний час покинуть радостное побережье озера Ломонд, усеянное очаровательными домиками, озера, где в изобилии водится редкостная рыба, которой нет в нашей морской воде, край, где пьют виски, более полезное для человека вашего возраста, чем то, каким довольствуются наши рыбаки и матросы. Чтобы вернуться к нам, нужно любить кого-нибудь в этой стране бурь, из которой, когда приближается зима, убегают даже змеи. Они сползают к озеру Ломонд, переплывают его беспорядочной толпой, точно клан грабителей, возвращающихся с добычей, и стараются укрыться под какими-нибудь защищенными с севера скалами. Только мужья, отцы, влюбленные не боятся вступить в суровую страну, если они надеются встретить там любимое существо; но для вас было бы безумием отойти сегодня ночью от берегов Длинного озера.
— Я и не собираюсь, — сказал незнакомец. — Во сто крат больше я хотел бы умереть здесь!
— Хотя Дугал и очень прижимист, — продолжала Джанни, не оставляя все тех же мыслей и почти не слушая ответов путника, — хотя он и допускает, — добавила она с легкой горечью, — чтобы у жены и дочерей Колла Камерона праздничные наряды были лучше моих, — а ведь они беднее нас, — в его хижине всегда найдется овсяный хлеб и молоко для странника; и мне было бы гораздо приятнее, чтобы наше доброе виски тратилось на вас, чем на этого старого монаха из Бальвы, который, если приходит к нам, всегда делает одно только зло.
— Что я слышу, дитя мое, — возразил старичок, изобразив на лице величайшее удивление, — ведь я как раз и держу путь к хижине рыбака Дугала; здесь, — воскликнул он, придав еще более нежный тон своему дрожащему голосу, — я вновь увижу все, что люблю, если только меня не обманули неверные сведения. Как же мне посчастливилось, что я нашел эту лодку!
— Понимаю, — сказала Джанни улыбаясь. — Да будет благословен маленький человечек с острова Мэн. Он всегда любил рыбаков.
— Увы, я не тот, за кого вы меня принимаете! И в ваш дом меня влечет другое чувство. Знайте же, красавица, — ведь это северное сияние, заливающее вершины гор, эти звезды, что, пересекаясь, падают с неба и освещают горизонт, эти блестящие борозды, что скользят по заливу и сверкают под вашим веслом, свет, исходящий от той далекой лодки, бегущий по воде и дрожащий около нас, — все это позволило мне заметить, что вы очень красивы; узнайте же, что я отец одного эльфа, который живет сейчас у рыбака Дугала; и если верить тому, что мне рассказали если судить по вашему лицу и вашей речи, я не поверил бы, хоть я и очень стар, что он мог избрать себе другое жилище. Я узнал об этом лишь несколько дней назад, а его, свое бедное дитя, я не видел со времен царствования Фергюса. Это связано с одной историей, которую рассказывать сейчас нет времени, но судите сами о моем нетерпении или, скорей, о моей радости, потому что вот уже и берег.
Ударом весел Джанни отбросила лодку назад и, откинув голову, приложила руку ко лбу.
— Ну что же, — сказал старик, — мы не причаливаем?
— Зачем причаливать! — возразила Джанни рыдая. — Несчастный отец! Трильби больше нет там!
— Больше нет! А кто же мог изгнать его оттуда? Неужели вы, Джанни, смогли отдать его этим злым монахам из Бальвы, которые были причиной всех наших несчастий?
— Да, да, — ответила Джанни с отчаянием в голосе, отталкивая лодку в сторону Аррокхара. — Да, это я погубила его, погубила навеки.
— Вы, Джанни, вы, такая прекрасная и добрая! Несчастный сын мой! Как велика должна быть его вина, если он заслужил вашу ненависть.
— Мою ненависть! — возразила Джанни и, положив руку на весло, уронила голову на руку. — Только один бог знает, как я любила его!..
— Ты любила его! — воскликнул Трильби, покрывая ее руки поцелуями (ибо этот таинственный путешественник был сам Трильби, и я с сожалением признаюсь, что если мой читатель и почувствует какое-то удовольствие от этого объяснения, то оно, вероятно, не будет вызвано неожиданностью). — Ты любила его! О, повтори, что ты его любила! Не бойся сказать это мне, сказать это для меня, потому что от твоего решения будет зависеть моя гибель или мое счастье. Прими меня, Джанни, как друга, как возлюбленного, как раба, как твоего гостя, хотя бы так, как ты приняла бы этого незнакомого странника. Не откажи Трильби в тайном приюте под кровом твоей хижины!..
И с этими словами эльф сбросил с себя странный наряд, одолженный им накануне у Шупельтинов Шотландских, и по течению поплыли его волосы из пакли и борода из белого мха, его ожерелье из раковин всех цветов, нанизанных на водоросли и на морскую траву, и его пояс из серебристой бересты. Теперь это был лишь бродячий дух очага, но темнота делала его облик каким-то зыбким, и он слишком уж напоминал Джанни странные видения ее недавних грез, соблазны этого опасного возлюбленного, являвшегося к ней во сне и заполнявшего ее ночи такими прелестными и пугающими иллюзиями, — ей чудился таинственный портрет в монастырской галерее.
— Да, моя Джанни, — шептал он голосом нежным, но таким слабым, как дуновение ласкового утреннего ветерка, пролетающего над озером, — верни мне очаг, откуда я мог видеть и слышать тебя, скромный уголок в золе, которую ты шевелила по вечерам, чтобы разжечь спрятавшуюся там искру, невидимую ткань паутины, висящую под ветхим потолком, где я качался, как в гамаке, в теплые летние ночи. Ах! Если так нужно, Джанни, я не буду больше надоедать тебе своими ласками, говорить, что люблю тебя, касаться твоего платья, даже если край его сам полетит мне навстречу, увлекаемый движением огня и воздуха. Если я позволю себе дотронуться до него один-единственный раз, то только для того, чтобы отстранить от огня, готового охватить его, когда ты задремлешь во время работы. Скажу даже больше, Джанни, потому что, я вижу, ты не решаешься снизойти к моим мольбам: удели мне хотя бы маленькое местечко в хлеву, для меня и это будет утешением; я буду целовать шерсть твоего барашка — ведь я знаю, что ты любишь обвивать ее вокруг пальцев; я буду выбирать самые душистые цветы в траве, наполняющей ясли, и буду плести из них гирлянды, чтобы украсить ими барашка, и когда ты принесешь новую подстилку из свежей соломы, примять ее будет для меня большей гордостью и наслаждением, чем лежать на богатых королевских коврах; я буду тихо шептать твое имя: Джанни, Джанни!.. И никто не услышит меня, будь спокойна, даже то насекомое, что однообразно и размеренно стучит в стене и своими «часами смерти» только и нарушает молчание ночи. Все, чего я хочу, — это быть возле тебя, дышать с тобой одним воздухом, воздухом, через который ты проходила, который вдыхала, касаясь его губами, который ты пролизывала взглядом и который нежно ласкал бы тебя, если бы бездушная природа обладала теми же преимуществами, что и мы, если бы у нее были чувства и способность любить!