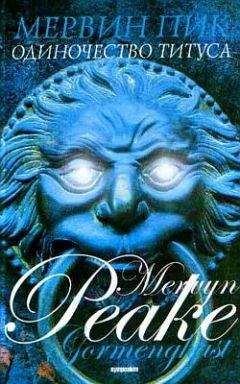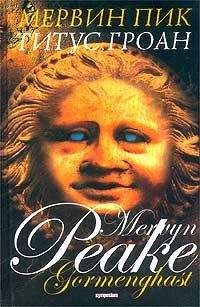Впрочем, те далекие дни процветания сгинули навсегда, и все эти существа, одно за другим, постепенно скончались, поскольку опыты, которые Агнец ставил над ними, не имели примера. И то, что он мог еще предаваться дьявольскому своему развлечению, даже после того, как слепота обратила мир его в вечную полночь, служило достаточным доказательством неодолимости зла. Нет, дело не в том, что хрусталики его глаз закоснели и затуманились, – не в том, что природа его стала причиною смерти столь многих, – дело было в желании Агнца, чтобы они обратились, еще оставаясь людьми, в скотов – и в скотов, пока оставались людьми. Вот это Агнец мог еще сотворить и сейчас, ибо он сохранил умение чувствовать и постигать строение головы и называть мгновенно животное, прототип, который, так сказать, вынашивается за обликом человека или внутри его.
Потому что в Гиене, который приближался сейчас, – с его гнутой спиной, с руками, с выбритой челюстью и белой рубашкой, с уродливым смехом, – обитал некогда человек, черты которого клонились к зверюге, и поныне сохранившей столь многое из бывшего в нем.
И в сердцевине Козла, скользившего теперь подростом, приближаясь и приближаясь с каждым шагом к страшным рудничным зевам подземного мира, тоже крылся некогда человек.
Ибо изысканнейшим наслаждением Агнца была порча. Трудиться над ничего не понимающими жертвами, переменяя их, одну за другой, с помощью тонко сплетенных страха и низкой лести, лишая собственной воли и принуждая к распаду не только нравственному, но и осязаемому. Вот тогда он и повергал людей в адское напряжение, ибо, изучив их переменчивые типы (маленькие белые пальчики пропархивали туда и сюда по костным ландшафтам многих дрожащих голов), он начинал вгонять людей в состояние, в коем они всей душою желали сделать то, чего от них хотел он, и стать такими, какими он желал, чтоб они стали. И так, постепенно, образ и характер зверей, которых они чем-либо напоминали, обретали силу, и начинали проступать мелкие признаки наподобие интонации, которой в их голосах никогда прежде не было, или манеры встряхивать по-индюшачьему головой, или пригибать ее, точно курица, несущаяся к кормушке.
Жаль только, Агнцу, при всем проворстве его разума, при всей изобретательности, не удавалось сохранять их в живых. В большинстве случаев это было не важно, однако существовало несколько скотов, ставших под ужасной эгидой его созданиями, в соразмерности своей просто великолепно идиотичными. И не только это – они, с их занятной взаимной перекличкой человека и зверя, доставляли ему непрестанное сардоническое упоение – примерно как карла, потешающий короля. Но не надолго. Самые своеобразные умерли первыми, а поскольку весь процесс преобращения был по природе своей настолько сверхъестественным, даже Агнец находил затруднительным установить, что убивало его подопечных, а что оставляло в живых.
Почему присутствовала в сложном характере Агнца злая, жгучая, точно язва, едкость, никто не смог бы сказать, но правда и то, что один лишь вид человеческого существа изменял сам окрас Агнцевой плоти. Так что залезть в глубину человечьей души и отыскать там, между мирских личин, ее животный эквивалент и аналог было для него не только забавой, но и демонстрацией омерзения – глубокой и яростной ненависти ко всему человеческому.
Долгое время минуло с последней смерти, когда человек-паук, моля о помощи, скорчился и иссох на глазах у Козла и Агнца и мгновенно рассыпался в прах. Для Агнца он был подобием компаньона – в тех редких случаях, когда Агнец пребывал в настроении водить с кем-то компанию. Ибо Паук сохранил определенные качества мозга, органа паутинистого и тонкого, и временами, когда Агнец сидел по одну сторону маленького стола из слоновой кости, а Паук – по другую, они вели долгие интеллектуальные сражения, имевшие отдаленное сходство с шахматными.
Однако существо это скончалось, а из всех былых придворных уцелели только Козел и Гиена.
Этих, похоже, убить нельзя было ничем. Они жили себе и жили. Агнец по временам сидел, уставясь в их сторону, и хоть видеть он не мог ничего, зато уж слышал-то все. Слух и нюх его были настолько остры, что хоть две твари и Мальчик находились еще от него в долгих лигах, белый владыка, сидевший, распрямясь и сложив на груди ручонки, уже отчетливо слышал их и обонял.
Но что запризрачный, незнакомый запах плыл к рудникам вместе с более едкими смрадами Козла и Гиены? Поначалу в позе Агнца ничто не менялось, но затем белая голова его откинулась назад, хоть все остальное тело осталось недвижным. Млечно-белые уши выставились вперед, чуткие ноздри подрагивали с быстротою гадючьего языка или крыльев пчелы, когда зависает она над цветком. Глаза слепо уставились во тьму наверху. Повсюду вокруг, в самых темных углах, или там, где свет ламп злорадно играл на возносящихся ярус за ярусом корешках библиотеки, совершалось нечто совсем новое, что-то сдвигалось, набирая скорость. Непроницаемый Агнец, никогда никаких чувств не выказывавший, разлучился на миг со своей природой, ибо он не только отъял, так сказать, голову от плеч, – настолько подчеркнутой стала оцепенелость его осанки, – но и почти незримая дрожь пробежала по его незрячему лицу.
Аромат близящейся жизни становился с каждым мгновеньем острее, хоть расстояние между подземными копями и спотыкающимся трио составляло еще многие мили.
Все трое, возглавляемые Гиеной, прошли к этому времени немалую часть той страны. Они оставили позади бездвижные леса и достигли пояса иссохших кустарников, сквозь которые теперь и брели. День уже лишился знойности, а голод довел Мальчика до слез.
– Что это делается с его глазами, дорогуша? – спросил Козел, указывая тем, что походило на руку без ладони, поскольку длинные полукрахмальные и грязные манжеты тянулись намного дальше ладоней и пальцев. – Остановись на миг, Гиена, любимый. То, что с ними происходит, о чем-то мне напоминает.
– Ах, вот оно что, да неужто, отродье зеленой вони? И о чем бы это? Ну?
– Взгляни и увидишь сам, своими прекрасными, проницательными глазами, – ответил Козел. – Видишь, о чем я? Поверни ко мне голову, Мальчик, чтобы поспорившие о тебе смогли вполне насладиться выражением твоего лица. Ты видишь, Гиена, дорогой, разве все не так, как я тебе говорил? Его глаза полны осколков разбитого стекла. Потрогай их, Гиена, потрогай! Они теплы и влажны, и посмотри, – по обеим его щекам струится влага. Это напоминает мне о чем-то. О чем бы?…
– Откуда мне знать? – озлобленно рявкнул Гиена.
– Посмотри, – продолжал Козел, – я могу погладить его по векам. Как рад будет белый наш господин переделать его!