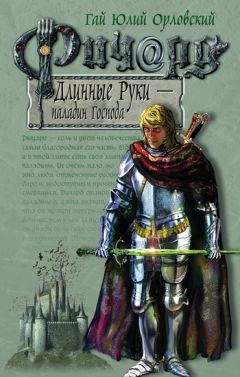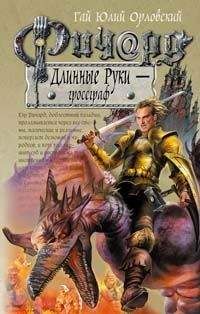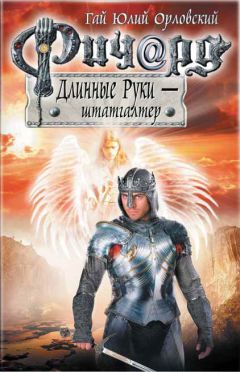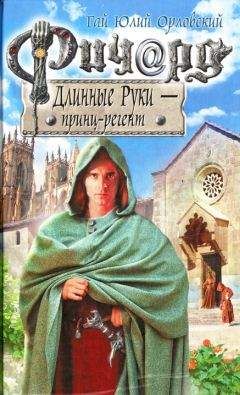Гендельсон багровел от гнева, бледнел от ярости, синел от злости, его ладонь в булатной рукавице со стуком падала на рукоять меча, щеки раздувались, из глаз били молнии. Он готов был уже сокрушать, изничтожать за веру и Отечество, за Богомать его Господа Бога, за всех святых и апостолов.
– Да, – сказал священник, он зябко передернул плечами, посмотрел на меня почти с испугом, вздохнул и сказал: – Идите за мной. Следующий зал еще наш… А там уж смотрите сами.
Мне показалось, что он стал даже меньше ростом, словно мой абсолютно верный пропагандистский выпад, такой привычный для разборок в моем обществе, показался ему чересчурным даже в отношении лютых врагов, с которыми воюет сотни лет.
Для перехода в следующий зал пришлось спуститься на пару сот ступеней. Гендельсон громко дивился, что на такой глубине да в твердом скальном массиве вырубили такие помещения, не иначе как с Божьей помощью да молитвами монахов. Я помалкивал, понимая, что просто следующая пещера оказалась ниже, а дверь под потолком делать как-то нехорошо, а сейчас вот откроем дверь…
И все равно я про себя сказал «ах». И добавил что-то еще. Ведь только наш человек может от восторга материться в мать, Богомать и всех апостолов.
Зал по размерам превосходил все предыдущие, как мамонтова пещера превосходит норку суслика. Свод терялся в темноте, стена за нашими спинами уходит направо и налево в бесконечность, противоположной стены не вижу в полумраке, а сам полумрак позволял взору проникать всего на пару сот шагов.
Гендельсон бормотал благодарственную, такое чудо увидеть довелось, истинное величие и могущество церкви, священник помалкивал. Иногда я ловил на себе взгляд его внимательных глаз. Он уже понял, что я не считаю его священником существующей вне стен этого странного храма религии, но почему-то не говорю своему закованному в железо спутнику. Похоже, даже догадывается, почему не говорю, хотя это совсем уж невероятно.
Мы шли через полумрак, тот расступался, а за спиной смыкался снова. И хотя освещенное незримым светом пространство велико, что-то около сотни шагов в диаметре, но когда я обернулся и не увидел стены с дверью, стало жутковато.
Впереди из полумрака оформилась фигура обнаженного до пояса человека. Он стоял ровно, спокойно, держа широкий меч странной формы в опущенных руках, за рукоять и лезвие, руки на ширине плеч, а плечи достойны того, чтобы посмотреть второй раз. Вообще он из тех, кого рассматривают долго: с чисто выбритой головой, весь меднотелый, и не просто покрыт плотным загаром, а словно в самом деле выкован из старой доброй меди.
Мы шли к нему медленно, он рассматривал нас чуть исподлобья. Гендельсон дышал часто, как будто готовясь к схватке, но руки держал врастопырку, подальше от рукояти меча. Голова стража зала блестит, как яйцо страуса, зато лоб часто и резко изрезан глубокими вертикальными морщинами. Если у Бернарда морщины все параллельные бровям, хоть и собраны больше над переносицей, то у этого ущелья углубляются и становятся темнее по мере приближения к обрыву над переносицей, к бровям, которые тоже рассекают глубокими шрамами, но густые брови скрывают.
Священник еще издали сделал некий знак, страж не шелохнулся. Смотрел по-прежнему исподлобья, хмуро, без всякой приязни. Лицо чисто выбритое, а на груди, как я заметил, ни единого волоска, что еще больше напоминает добротную ковку из меди. Голова и мускулистая шея равны по объему, а глядя на торс, я вспомнил старое выражение насчет груди, подобной бочке: выпуклая, могучая, переразвитая, словно помимо могучих мышц ему еще потребовались и могучие легкие.
Мне показалось, что он даже не дышит, словно йог или киборг. Священник остановился, произнес торжественно:
– Спасибо тебе, сын мой, что охрана твоя все так же безупречна, как и… в тот день, когда встал на защиту этих дверей.
Мне показалось, что запнулся в момент, когда чуть было не назвал день, но такое нельзя при гостях, могут грохнуться в обморок. Страж впервые выказал, что жив, темные глаза стрельнули взглядом в Гендельсона, потом в меня. И тоже, как и глаза священника, он вперил взгляд в мой мешок с мечами и уже раскрыл было рот, намереваясь что-то спросить, но вздохнул и повернулся к священнику.
– Что это за люди, отец? – спросил он. – Убить их здесь?
– Нет, славный дель Шапр, – сказал священник. – Они хотят пройти… в Адинанду…
Гендельсон крякнул, спросил с недоумением:
– Отец-настоятель, я что-то не понял. То ты говорил про Анг-Идарт, теперь про…
Священник прервал:
– Адинанда – великий прекрасный город, где жили… живут прекрасные и мудрые люди…
Я прервал в свою очередь:
– Отец-настоятель, мы все понимаем. Как нам пройти на ту сторону…
– А я не понимаю! – возразил Гендельсон. – Мне нужен Кернель, а не Адинанда, Анг-Идарт или что-то там еще! Вы мне укажите дорогу в…
– В ад? – закончил я резко. – Сэр Гендельсон, вы в святом храме! Не забывайтесь. Довольствуйтесь, что вам помогают. Подумайте, ведь нам помогают!.. Еще один-два зала, и мы на той стороне! Мы в… мы там, где должны быть! Всё поняли?
Он мотнул головой.
– Ничего не понял. Но… если это ускорит нашу миссию, то я прекращаю расспросы и прошу побыстрее указать нам путь на ту сторону этого горного хребта.
Священник сжался, а страж спросил с недоумением:
– Горного хребта? Какого горного хребта?
Священник втянул голову в плечи. Гендельсон не успел раскрыть рот, я сказал громко:
– В нашем племени там выражают восторг по поводу размеров храма. Здесь великолепно, а ваша роль здесь достойна зависти самых знатных воинов. А теперь покажите нам дорогу, мы очень торопимся. Пожалуйста!
Воин, которого священник назвал дель Шапром, взглянул вопросительно на священника, тот кивнул, воин повернулся и пошел через зал.
– Идите, – сказал священник. – И да будет с вами благословение всех, кому вы доверяете и… верите.
Гендельсон не уловил расплывчатости благословения, а я кивнул священнику на прощанье, развел руками, извиняясь, что мы, люди, наделали столько изменений там, за воротами этого храма. Глаза его были печальные, но понимающие и потому всепрощающие.
– Крепись, сын мой, – сказал он неожиданно. – Ты силен… но ты в большой беде. В очень большой.
Я оглянулся в сторону Гендельсона, они с дель Шапром медленно удалялись в сторону мглы, и единственно четким в том мире был каменный узорный пол да слабое отражение в нем. Будто они шли по тусклому зеркалу.
– Они нет?
– Только ты, – повторил он. – Я говорю не о той беде, что подстерегает в соседнем зале, на выходе или вообще беды со стороны стрел, мечей, когтей или зубов. Ты не видишь настоящей беды, что уже готова сомкнуть над тобой зубы…