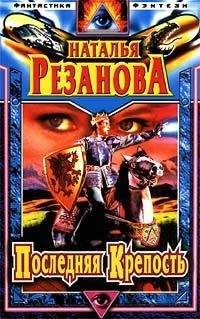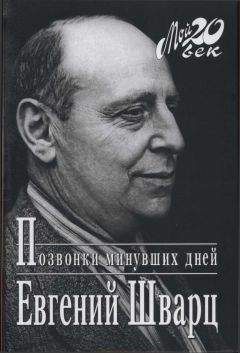Ну, а Гейрред Тальви — единственный, если вдуматься, законный правитель в этой череде претендентов и претендентишек? Бог с ними, с дворянством и бюргерством, не в них была сейчас сила, но разве не мог он крикнуть толпе то же самое — хромая нога, она глотку драть не препятствует — и повести за собой простонародье? Пожалуй, что и не мог, даже если б захотел. Я слышала, что говорили в деревнях. Тальви считали виновником всех несчастий, обрушившихся на Эрд, — должна признаться, не вполне несправедливо. Его проклинали с лютой ненавистью — не для того, чтобы угодить новой власти, а от души. Если бы его опознали, вряд ли бы пристава Дагнальда успели подоспеть вовремя, чтобы схватить его. И как ни тяжко мне приходилось, трудно было винить крестьян. Среди общих бедствий всегда нужно на ком-то отыгрываться, и Тальви досталась эта неблаговидная роль. Совсем по-иному говорили об Альдрике — герое, спасителе Эрденона, светлом воине. Вирс-Вердер не решился вовсе лишить его погребения или посмертно предать тело огню, однако, как рассказывали, объявил его еретиком и богохульником, о чем неопровержимо свидетельствовало принятое им кощунственное прозвище, и приказал похоронить его так, как и надлежало хоронить еретиков, отступников и тех, кто лишен был последнего отпущения грехов, — в неосвященной земле, при дороге, без гроба, но в осмоленной бочке, разрисованной языками адского пламени. Странным образом это лишь добавило Альдрику популярности. Прозвище Без Исповеди, непрестанно употреблявшееся в указах генерального судьи, никогда не повторялось в народе. И я бы не удивилась, узнав, что на могиле его будут тайно собираться паломники, там начнут свершаться чудеса и в конце концов простонародье начнет считать Рика Без Исповеди — Альдрика Эрденонского — святым. Был бы он жив, вволю бы посмеялся такой славной шутке. В которой, в сущности, ничего смешного не было. Знаем мы примеры со святыми и похлеще. И никому не приходило на ум, что Тальви сделал то же самое, что и Альдрик, пытаясь спасти Бодвар от разрушения и разграбления, но неудачно. Однако всякое народное сочувствие имеет пределы, хоть и принято утверждать обратное. Может быть, Тальви бы простили, если б он погиб. Но он остался жив — а такое не прощается. И вдобавок пропал без вести — а это раздражает. И пусть Тальви не мог затесаться в толпу и послушать разговоры, все же во время наших скитаний он что-то понял. Обязан был понять. Возможно, и это также было одной из причин его бездействия.
Насчет моей собственной безопасности тоже вряд ли следовало обольщаться. Особенно это стало ясно после того, как я стала свидетельницей следующего достопримечательного случая. Дело было возле постоялого двора у дороги, к западу от Катреи. Народу поблизости собралось довольно много для эдакого захолустья — беженцы, погорельцы, крестьяне из окрестных деревень, просто бродяги. На них-то в первую очередь и насел отряд приставов, подъехавший, разбрызгивая грязь из многочисленных колдобин, — десяток молодцов в клеенчатых плащах, отнюдь не лишних, ибо шел дождь. Однако это была не облава на нищих и бродяг, несмотря на то что их хватали в первую очередь. Хватали и подтаскивали к своему начальнику, вальяжно восседавшему на рыжем мерине с отвислым задом. Начальник осматривал задержанных и небрежно делал ручкой — гоните, мол, в шею. Приглядевшись, я узнала в нем Ансу. Выходит, я не ошиблась — бросил он несчастных южан. И подался в служители правосудия. Такого даже я предположить не могла.
Всплыл, значит, Ансу. Немудрено. Дерьмо всегда всплывает. Вор, шпион и комедиант явно нравился себе в своей новой роли. Ради удовольствия покрасоваться на коне (ну ладно, на мерине) перед жалкой толпой он даже не ушел под навес, хотя под дождем это было бы куда как удобнее. Или им у себя в управе благочиния плащи такие прочные выдают?
Почему такая вошь, как Ансу, вдруг выбилась в начальники, пусть и мелкие, невзирая на провал своей шпионской карьеры, загадки не представляло. Все разъясняла манера оглядывать согнанных к нему бродяг. Разумеется, Пыльный доложился своему хозяину, что сумеет меня опознать.
Представителей воровской братии вряд ли можно назвать благородными джентльменами, но среди них, мягко говоря, не принято закладывать своих. Опять-таки не от высоких моральных принципов. Если об этом станет известно, собратья по стенке размажут. Оправданием могут служить только пытки, и то не всякие Своди счеты сам, а не с помощью властей — гласит воровской кодекс, который, в сущности, так же бессмыслен и бесполезен в трудные времена, как кодекс рыцарский. Но раз Ансу уже побывал в шпионах, все дальнейшее должно было даваться ему гораздо легче. Впрочем, он мог оправдывать свои действия тем, что я «начала первая» и к «своим» уже не принадлежала.
Однако, когда я прошла мимо него, он меня не узнал. А я шла спокойно, не торопясь и не прячась. И сеющийся дождь вовсе не был помехой. Конечно, у Ансу были преимущества перед теми, кто всего лишь слышал мое описание. Но он не смог совместить облик, в котором видел меня в последний раз, — бархат и кружева, низкий вырез и высокие каблуки, блеск драгоценностей и пресловутых золотых волос — с нынешним, посконно-овчинным. Недостаток воображения, свойственный большинству жителей Эрда и столько раз выручавший меня, помог и теперь. … А и в самом деле, считают ли меня своей прежние знакомые? Им было не впервой слышать о том, что меня ловят и собираются казнить, но причины, по которым по мне сызнова застрадала плаха, были им совершенно чужды и непонятны. Живо представилось, как в зале «Оловянной кружки» Маддан вещает посетителям — тем, что не из «племянников»: «Вот тоже — Золотая Голова. Говорил я ей — не лезь ты в это дело Не послушалась, дура баба, и сгинула ни за грош. Вот что значит — связаться с благородными! „ А Оле-вышибала бубнит от дверей: «Неа, хозяин. Не такая она дура, чтобы просто так взять и сгинуть“.
Правильно, Оле. Я не собиралась сгинуть. А если и сгину, то не просто.
Вероятно, то, как нагло и безнаказанно прогулялась я на глазах Ансу, подтолкнуло меня к решению двинуться в вотчинные владения Дагнальда. Тогда я думала лишь о том, что лучшее укрытие чаще всего бывает под самым носом у врага. Мы перешли Нантгалим, причем, поскольку часть пути нужно было проделать по открытой местности, пришлось свести лошадей — мне повезло больше, чем тем троим, что в недобрый час сидели в засаде у лесной тропы, — а потом, на правобережье, избавиться от них, потому что предстояло углубиться в чащу, да и прокормить их стало невозможно.
От спешки и от усилий рана Тальви, начавшая уже было подживать, снова открылась, и у него сызнова началась лихорадка. Дней на пять пришлось остановиться. Я соорудила какой-то шалаш, уложила Тальви там. Сама чуть не подохла от голода, потому что не рисковала отходить далеко и помышлять об охоте, а тем более о походе по деревням. Уж конечно, припомнились мне все мои трапезы — и в «Коронованной треске», и в «Ландскнетте», и в «Раю земном», об «Оловянной кружке» я и не говорю, и горько пожалела я о том, что могла бы съесть и не съела — вот хотя бы с того подноса, что Берталь притащила Ларкому. Да, Ларком… О нем я ничего не сказала Тальви. Он и без того пережил довольно предательств. Но почему-то у меня было чувство, что он и так знает. Короче, не только о еде были мои мысли в те дни и ночи, когда я сидела возле горевшего в жару Тальви. Становилось все холоднее, но до морозов было еще далеко, я украла теплую одежду, и мы скрылись в такой глуши, что можно было разводить костер. Но это все — не спасение. Даже если Тальви поправится — а я надеялась, что он поправится, зимовать под открытым небом мы не сможем. Могли бы… но не в эту зиму. Я должна заботиться о своем ребенке. Это значит: я должна найти безопасное убежище, где смогу выносить его и родить. В этой части империи я не знала такого места. Да и есть ли для нас вообще безопасное место в империи?