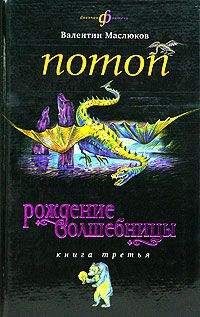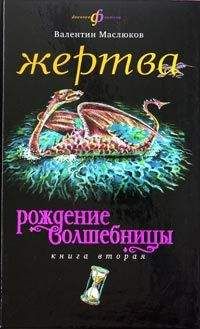— Послушай, — сказала она миролюбиво, — сегодня чудесный день. Солнцеворот. Ты толкался со мной на площади, среди этого буйства жизни… Ты выслеживал меня, ты глядел в спину, чтобы догнать, садануть ножом. Кровь, судороги. Не гадко? Ты не испытываешь даже простой брезгливости? Догнать человека и убить.
— Ты не человек! — быстро возразил он, защищаясь. — Не человек — оборотень.
— Предположим, что это так, — пожала плечами Золотинка, не особенно даже удивившись. — Но разве оборотни не люди?
— Может, и люди, — просипел, кисло скривившись, бродяга, — да мы-то для вас не люди. Мы для вас кто? — быдло. Вы-то умники — мы дураки. Оборотни обсели честных людей, как мухи, жизнь они нам загадили — вот что.
— О, да тут целая философия, — небрежно заметила Золотинка. — Я вижу, какой-нибудь маленький вертлявый, с кудряшками оборотень изрядно тебе досадил.
— И опять верно, — прищурил единственный глаз бродяга.
— А ты подумал, кому ты нужен, чтобы человек ради тебя поганил себе жизнь оборотничеством?
— А я, знаешь ли, не всегда вот с этим ходил, — хмыкнул бродяга, указывая острием ножа на грязную тряпицу через лицо.
— Вдвое проницательнее что ли прежде был? Смотрел в оба?
— Я и сейчас одним глазом тебя вижу.
— Чего же тебе тогда оборотней бояться?
— А я тебя не боюсь, — глухо молвил бродяга, поводя ножом. — Не боюсь, — повторил он, словно убеждая себя. — Ненавижу. — Все чувства его возмутились, как полыхнуло. Он ступил вперед, сокращая расстояние.
Золотинка придержала готовое уж было сорваться словцо, уразумев наконец, что впадает в пустое и злобное препирательство, словно нарочно дразнит бродягу, выводит его из себя бесстрастным по внешности противоречием. И чем больше она язвит, чем больше яда в ее лицемерном хладнокровии, тем больше утверждается в своем бродяга, ожесточаясь. Это-то и заставило ее опомниться, она поняла, что заигралась. Покосившись вниз на раскрытое с нарочитым пренебрежением платье, Золотинка взялась за пуговицы.
Отметил бродяга совершенную немалым внутренним усилием перемену или нет — не в том он был состоянии, чтобы заботиться ничтожными различиями в ухватках волшебницы, — но как будто обмяк, собственные терзания, душевный разлад и противоречия заставляли его колебаться.
— А если по-твоему… — помолчав, пробормотал он так, словно они собрались тут для мирной беседы. — что боюсь? Если по-твоему, — вскинул он глаза, — что тогда?
— Поэтому и готов убить? Из страха?
— А страшнее всего как раз потерять страх и расслабиться. Вот тогда страшно, — молвил он уже почти спокойно.
— Ты заблуждаешься. Оборотень не может скрыть свое естество. Кто совершает поступки, кто говорит, кто лжет и говорит правду, кто злится, кто жаждет, любит и ненавидит — тот сам себя разоблачает каждым шагом и каждым словом. Именно так. А все остальное — наша слепота. Ее и нужно боятся. Имея уши, не слышим, имея глаза, не видим. Вот что страшно. А убить ложь… Что ж, похвально убить ложь. Но как ты ее убьешь, если у лжи тьма обличий? Собственно говоря, чтобы убить ложь, нужно не бояться правды. Вот и все.
Что-то новое, доброжелательное, почти дружеское в мягком, женственном голосе волшебницы заставило бродягу насторожиться, он злобно мотнул ножом, оберегаясь от наваждения.
— Скажи еще, верить в людей!
Золотинка пожала плечами.
— Кто ничему не верит, тот верит всему.
— Красиво выражаешься, — враждебно обронил бродяга, делая шаг. В душе его колыхалось нечто мутное. — А теперь, — продолжал он неуловимо дрогнувшим голосом, — хватит болтовни. Ничто уж тебя не спасет, но хочу я одно: кто ты есть? Как тебя зовут? Имя!
Подбираясь ближе, он уже не прихрамывал, единственный глаз под сурово изломанной бровью смотрел с двойной бдительностью, о нерасположении шутить говорила скорбная складка рта.
Тягостное спокойствие владело Золотинкой.
— Все это не так важно, как кажется, — заметила она. — Но изволь: меня зовут Золотинка.
Подбираясь еще на шаг, почти неприметный, неразличимый шажок, бродяга покачивал головой, отрицая все, что говорила ему девушка.
— Я могла бы сказать, что, к счастью, к счастью для тебя, ты не способен на хладнокровное убийство. И это была бы правда, но она тебя не спасет — на хладнокровное не способен, а безумие уже рядом. Ты у края пропасти. Легко потерять равновесие.
— Имя! — повторял он, не слушая. — Ты скажешь мне имя, или… скажешь мне свое имя!
Сделает, поняла Золотинка. Содрогаясь от боли, пырнет ножом.
— Имя! — дрожал он, подступая.
— Золотинка, — покорно сказала она.
Покорность девушки сбивала его в тот самый миг, когда зачиналась подмывающая волна бить. Он должен был — зажмурившись! — заводить себя, словно карабкался без конца на падающую под ногами вершину.
— Имя! — повторил он, прохваченный бешенством.
— Золотинка, — отвечала она еще мягче, ибо не могла справиться с жалостью и удивлением, которую вызывал у нее мучительный клубок противоречий в этой растерзанной душе — убийца путался в них и душился, карабкаясь все вверх и вверх, чтобы свалиться в бездну.
— Имя! Я убью тебя, лживый оборотень! — рычал он уже в беспамятстве. Золотинка не понимала, как уберечь его от самого себя.
Мельком оглянувшись, она подалась назад и очутилась на краю глинистого обрыва, который падал размытым откосом до полосы раскатанного прибоем песка. Убийца сократил этот шаг, наступив на брошенный в траву плащ.
— Имя… — произнес он упавшим до шепота голосом как-то совсем бессмысленно — было это не слово, вздох перед ударом.
Завороженная чужой страстью, Золотинка ненужно медлила. Сторож на задворках сознания, однако, хранил ее, она знала, что уловит ничтожный, но постижимый миг, когда чувства и мысль убийцы соскользнут в удар.
Но и он медлил — растягивая безумие — завороженным, из кошмарного сна движением поднял левую руку к голове и потянул повязку, освобождая больной глаз, — здоровый, как мгновенно поняла Золотинка.
Нечего было ждать.
Давно уж опутавшись сетью, она готова была всякий час и, бросив взгляд за спину, оступилась в пропасть. Так это выглядело со стороны — едва подвинувшись, обвалилась.
Пронзительный вопль провожал ее падение, она летела исполинскими прыжками, вздымая облака пыли и лавины гальки, которые чудесным образом не причиняли ей ни малейшего вреда, не задевая ни ног ее, ни странно поджатого платья. Она летела вниз, а сверху доставал ее сжимающий сердце вопль — стой! Но Золотинка, как ни владела она собой в вольном и легком лете, могла обернуться не прежде, чем прянула на песок — бродяга сыпался за ней следом.