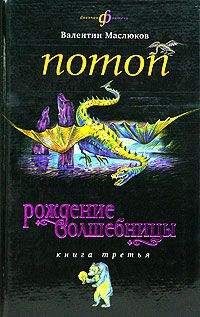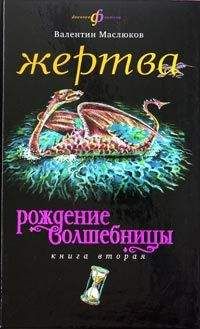На пятнадцатом году Золотинкиного супружества произошло еще одно необыкновенное событие, которое обратило ее мысли к морю, событие настолько нежданное, что трудно даже сказать радостное или печальное — Золотинка узнала свое имя.
Вот как это случилось: по случаю упразднения Казенной палаты явилась необходимость распорядиться бумагами этого учреждения, и Золотинка просила разобраться с огромным архивом палаты Поплеву. Поплева-то и нашел в одном из приказных подземелий заполненный всяким хламом ларь, в котором после некоторых размышлений признал тот самый сундук, что в далеком уже семьсот пятидесятом году вынес из морской волны нынешнюю слованскую государыню Золотинку, тогда — неизвестного никому младенца.
Известили сейчас же и Золотинку. И она, вдохновленная старой выдумкой Рукосила насчет принцессы Септы и спрятанного под внутренней обивкой сундука послания, велела все же эту обивку снять.
И к общему изумлению полуистлевшее от времени и превратностей письмо действительно открылось.
Несомненно подлинное — по крайней своей краткости и невразумительности. Сильно попорченное морской водой письмо писалось, как видно, на корабле во время бури, в последний час, когда несчастная мать, в отчаянии теряя голову, решилась доверить ребенка жестоким случайностям стихии. Она писала на чистом слованском языке (что, кстати, опровергало всякие домыслы о мессалонском происхождении Золотинки), но неровными от возбуждения и качки буквами и не много успела вместить в несколько пляшущих строк:
«Люди добрые! — взывала мать. — Сжальтесь над несчастной сироткой, если сжалится над ней море, потому что нет у нее никого, кроме меня. Отец Русавы…»
Это и было все, что удалось разобрать с некоторой долей вероятия. Можно было понять, что Золотинку звали Русавой — все остальное, весь нижний край листа, проела соленая морская вода. Русава или, может быть, Купава, но, скорее всего, Русава. А больше ничего, не осталось даже подписи, только мутные, как разводы слез, пятна.
Несколько драгоценный слов, написанных дорогой рукой… незнакомой рукой… Такой мучительно, до боли в сердце, до сердечной тоски незнакомой рукой. Навсегда, на вечность, на предбудущие времена незнакомой.
И странно это звучало — Русава. Другой человек, другая судьба, нечто не сбывшееся. Словно тенью прокралась Русава, прошла за спинами, не давши себя заметить… Могла быть и Русава…
— Так мы прошли, не встретившись, — прошептала потрясенная Золотинка.
Поплева вопросительно посмотрел, как бы ожидая продолжения. Но Золотинка тронула его за плечо и ничего уж не стала объяснять.
— Русава. Чудесное имя, — задумчиво заметил Юлий. — Я буду тебя звать Русавой.
Золотинка безмолвно кивнула, скрывая в душе какое-то странное возражение, что-то вроде ревности даже… Но Юлий не смог. Кажется, он пытался, не раз пытался вспомнить, что Золотинка — это Русава, но так и не смог преодолеть себя и воспользоваться звучным, красивым, полным загадочных ожиданий… но чужим, безнадежно чужим именем.
Русава осталась для них семейной памятью. Они поминали Русаву, как умершего в младенчестве ребенка. Поминали Русаву и не дотянувшуюся до будущего мать, когда переходили на тарабарский язык. В грустный, задумчивый час, испытывая потребность в особенной близости, они говорили на том единственном языке, на котором одни только в целом свете и понимали друг друга.
Ну, вот, собственно, все…
Да! И еще искрень. Это дело общеизвестное. Искрень теперь в каждом доме: крутит мельницы, молотилки, приводит в движение лесопилки и ткацкие станки, плавит железо, освещает и даже, как утверждают горячие головы, когда-нибудь станет двигать самодвижущиеся телеги. Что долго говорить — все это у каждого перед глазами, так что и чудом-то уже не считается. Хотя ведь все равно чудо. Если вдуматься.
Конец шестой и последней книги
сказочного романа
«Рождение волшебницы»
7 января 2000 года