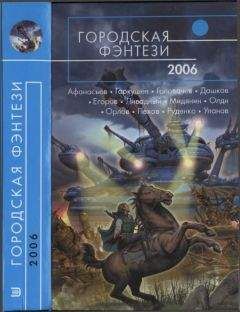Мальчики жались друг к другу, боясь признаться в собственном страхе. Два солдата подсадили их в кузов старинного грузовика, и он поехал в сторону Белорусского вокзала.
Москва лежала перед ними — темна и пуста. Осенняя ночь стояла в городе, как черная вода среди кочек торфяного болота. На окраине, у «Сокола», они вошли в подъезд — гулкий и вымерший.
Музыкант-дудочник вел их за собой — скрипнула дверь квартиры, и на лестницу выпал отрезанный, как сыр, сектор желтого света. Высокий подросток молча повел Ляпунова и Минина в глубь квартиры. Такие же, как они, дети, испуганные и не понимающие, выглядывали из-за дверей бесконечного коридора.
Сон накрывал Минина с Ляпуновым, и они заснули еще на ходу — от страха больше, чем от усталости, с закрытыми глазами бросая куртки в угол и падая на один топчан.
Когда Большой Минин открыл глаза, он увидел грязную лепнину чужого потолка. Мамы не было, не было дома и вечно горящего светодиода под плоским экраном на столе. Был липкий ужас и невозможность вернуться. В грязном рассветном свете неслышно прошла мимо Минина высокая фигура — это вчерашний музыкант встал на скрипучий стул рядом с огромными, от пола до потолка, часами. Тихо скрипнув, открылось стеклянное окошечко — дудочник открыл дверцу часов.
Он начал вращать стрелки, медленно и аккуратно. Через прикрытые веки Большой Минин видел, как в такт каждому обороту моргает свет за окном, и слышал, как при каждом обороте с календаря падал новый лист. Листки плыли над Мининым, как облака.
Минин зажмурился на мгновение, а когда открыл глаза, то никого рядом не было. Только лежал рядом листок календаря с длинноносым человеком на обороте — и социалист Сен-Симон отворачивался от Минина, глядел куда-то за окно, на свой день рождения.
Пришел бледный Ляпунов, он уронил на топчан грузное тело и принялся рассказывать. Это не кино — никакого их мира не было этом в городе, на улицах ветер гонял бумаги с печатями, а люди грабили магазин на углу. Ляпунов взял две банки сгущенки, потому что взрослые прогнали его, и вернулся обратно.
Квартира оказалась набита детьми — одних приводили, других уводили, и пока не было этому объяснений.
Ляпунов, начитавшийся больше фильмов, чем книжек, строил предположения. В комнате шелестело что-то о секретных экспериментах, секретных файлах.
— Мы мировую историю должны изменить. Это Вселенная нами руководит! Гоме… Гомо… Гомеостаз!.. — Но все эти слова были неуместны в холодной пыльной комнате, где только часы жили обычной жизнью, отмеряя время чужого октября.
Ляпунов был похож на хоббита, нервничающего перед битвой с силами зла. Где Гендальф, а где Саурон, было для него понятно изначально, но вдруг он хлопнул по топчану:
— Слушай, мы ведь выстрелить не сумеем! Тут ведь на всю Красную армию ни одного автомата Калашникова. Ты вот винтовку мосинскую в руках держал? Ну, зачем мы им, зачем, а?
Через несколько дней молчаливого и затравленного ожидания пришли и за ними — старшим оказался тот мальчик, что открывал им дверь, назвался Зелимханом. Он вывалил перед Мининым и Ляпуновым груду вещей, нашел в ней пятый, лишний валенок, забрал его и велел одеваться.
Так они и вышли на улицу в курточках с чужого плеча — набралась целая машина, и Дудочник, прежде чем сесть за руль, долго шуровал ручкой под капотом.
Их везли недолго и выгрузили где-то за Химками. Там на обочине лежал труп немца — без ремня и оружия, но в сапогах. Рядом задумчиво курил старик, отгоняя детей от тела.
Зелимхан собрал мальчиков и повел их на запад — заходящее солнце било им в глаза, и они первый раз переночевали в разоренном магазине. Мальчики спали вповалку, грея друг друга телами, и Минин слышал, как ночью плачет то один, то другой. Он и сам плакал, но неслышно — только слеза катилась по щеке, оставляя на холодной коже жгучий след.
Зелимхан разрешил звать себя Зелей. У него единственного было оружие — «наган» с облезлой ручкой.
И через несколько дней к нему, закутанному в женскую шаль, подъехал обсыпанный снегом немец на мотоцикле: Немец подозвал Зелю, а его товарищ в коляске раскрыл разговорник.
Зеля подошел и в упор выстрелил в лицо первому, а потом и второму, без толку рвавшему пистолет из кобуры.
Из-за сугробов вылезли остальные мальчики, и через минуту мотоцикл исчез с дороги, и снова только поземка жила на ней, вихрясь в рытвинах. Тяжелый пулемет, пыхтя, нес Маленький Ляпунов — как самый рослый, а остальное раздали по желанию. Солдатка, у которой они ночевали в этот раз, валяясь в ногах, упросила их уйти с утра.
Так они кочевали по дорогам, меняя жилье. Минину стало казаться, что никакой другой жизни у него и вовсе не было — кроме этой, с мокрыми валенками, простой заботой о еде и легкостью чужой смерти.
В начале ноября Минин убил первого немца.
Зеля предложил устроить засаду на рокадной дороге километрах в десяти от деревни. Полдня они ходили вдоль дороги, и Зеля выбирал место, жевал губами, хмурился.
Потом пришли остальные.
— Давай не будем знать, откуда он это знает? — сказал Ляпунов.
И Минин с ним согласился — действительно, это знать ни к чему.
Они лежали на свежем снегу, прикрыв позицию хоть белой, но очень рваной простыней, взятой с неизвестной дачи. Мальчики притаились за деревьями по обе стороны дороги. Зеля выстрелил первым, сразу убив шофера одной машины, а со второго раза Минин застрелил шофера шедшей следом.
Вторая машина оказалась пустой, а раненых немцев из первой Зеля зарезал сам.
Минин слышал, как он бормочет что-то непонятное, то по-русски, то на неизвестном языке.
— Э-э, декала хулда вейн хейшн, смэшно, да. Ца а цави-сан, да. Это мой город, уроды, это мой… — услышал краем уха Минин и, помотав головой, отошел.
Они завели вторую машину и подожгли другую. Началась метель, и следа от колес не было видно.
Мальчики вернулись домой и всю ночь давились сладким немецким печеньем и шоколадом.
Зелимхана убили на следующий день.
Немцы проезжали мимо деревни, где прятались мальчики. Что-то не понравилось чужим разведчикам, что-то испугало: то ли движение, то ли блик на окне — и они, развернувшись, шарахнули по домам из пулемета. Зеля умирал мучительно, и мальчики, столпившись вокруг, со страхом видели, как он сучит ногами — быстро-быстро.
— Я их маму… — выдохнул Зеля, но не выдержал образ и заплакал. Он плакал и плакал, тонко пищал, как котенок, и все это было так непохоже на ловкого и жестокого Зелю.
Он тянул нескончаемую песню «нана-нана-нана», но никто уже не понимал, что это значит на его языке.
Через несколько дней они наткнулись на очередную деревню. Рядом с избами, поперек дороги, стоял залепленный снегом немецкий бронетранспортер. Мальчики обошли вокруг и нашли замерзшего часового.