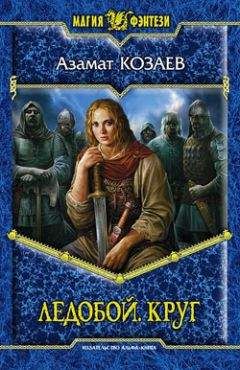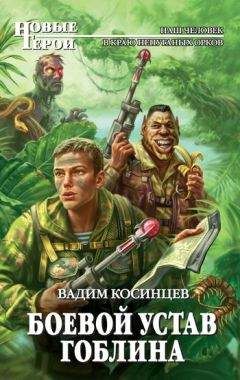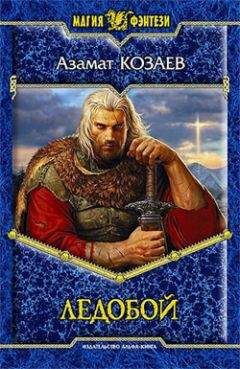– У леса возьмем, – буркнул Сивый и сделал Гарьке знак умолкнуть. Та губы поджала, но отвечать не стала.
– Ох и жизнь теперь наступит… – Старик закрыл глаза и простерев руки в стороны, потянулся, будто наелся медовых петушков. – Безродушка охотится, я за скотиной хожу и землю пашу, Гарька в доме кашеварит…
«Ни звука». – Безрод сделал страшные глаза, и Гарька прикусила язык.
– …А после свадьбы, дадут боги через годик, возьму на руки внука и отпускать не стану. На шее буду катать, байки рассказывать…
«Молчать. – Сивый усмехнулся Гарьке и покачал головой. – Знаю, что теми байками грузчиков на пристани с ног валить, но теперь помолчи».
– И станем точно сыр в масле кататься, а Куролес из деревни, – Тычок презрительно кивнул в сторону Понизинки, – со стыда помрет. Тоже мне рассказчик! Те побасенки я еще в детстве рассказывал, и уже тогда никто не смеялся. Пень седобородый!
– Как завалинку тесать? Пошире или поуже?
– Аккурат чтобы лечь и не упасть! – Балагур подбежал к доске, поставил стоймя, поручил Безроду крепко держать и привалился спиной, сложив руки на груди. – Вот так, видел? Летом спать буду.
– Не останется времени, – съязвила Гарька. – Земля, коровки…
– Ты поговори у меня еще! – Тычок сорвал с головы полотняную летнюю шапку и швырнул в девку. – Враз без молока оставлю, потому как я над коровами буду наиглавнейший!
Безрод за его спиной приложил палец к губам и кивнул Гарьке на ведра, дескать, самое время. Та улыбнулась, мощно облапила старика – смотреть со спины, так и вовсе балагура не увидишь, – и смачно поцеловала в лысеющую макушку. Тычок трепыхался, но вырваться не мог, только смешно дрыгал ногами и визжал на всю округу.
Теплой весенней ночью Гарьке не спалось. Хоть и широка вышла телом – спасибо отцу и матери, – все равно душе стало тесно. Бродила внутри, как молодое вино, и прочь рвалась. Грудь ходуном ходила, в испарину бросало, и пряным бабьим потом пропахла вся изба, даже Чернолапка, молодая кошка, и та водила носом. Счастье встало за углом, вот-вот постучится в дверь. Как тут уснешь?
– Чего не спишь, дура? – на крыльцо вышел Тычок, присел рядом.
– Не спится.
– Все поверить не можешь?
– Ага. Не верится. С Безродом не соскучишься.
– Наш молчит, молчит, потом сплеча рубит. И головы убрать не успеешь.
– Пусть рубит. – Гарька улыбнулась, в темноте ярко сверкнув белыми зубами. – Который день пошел, не могу понять – неужели это всерьез?
– Вам, дурехам, все любовь подавай. – Балагур пальцами постучал Гарьку по лбу, а та вдруг поймала стариковскую ладонь и прижала к своему пылающему лбу, Тычок даже опешил.
– Думала, умру, а не откроюсь, – шептала бывшая рабыня. – Иной раз невмоготу становилось, боялась проговориться, выдать себя.
– Давно любишь?
– С первого дня, как увидела на рабском торге. Только насильно мил не станешь – не меня он искал. А разве я не баба? Разве хоть чем-нибудь хуже Верны? Или стать не та?
– Да вроде с этим порядок, – буркнул старик. – Давеча так меж грудями определила, думал, живым не уйду. Отпусти ты меня, все равно не упал бы – застрял намертво.
– Тьфу, бесстыдник! – хоть и было темно, Гарька спрятала глаза в стариковскую ладонь. Несчитанных годов мужичок другой рукой неожиданно погладил девку по русой голове:
– Все образуется.
– Разве я хоть словом помешала Верне?
– Нет.
– Разве из-за меня у них счастье не сладилось?
– Нет.
– Неужели я разлучница?
– Что ты, милая, что ты!
– Иной раз жутко. Глаз тяжелый, нутро от озноба ежится, а поделать ничего не могу, хочу замуж, и все тут. В глубине души знаю – смогу. И взгляд ледяной выдержу, и все перенесу. Едва он вошел в рабский загон, сердце екнуло – ради такого стоило лететь из отчего дома за тридевять земель. Уже отчаялась, что посмотрит на меня как на бабу, и нате вам!
– А отец с матерью?
– Наведаемся к ним после свадьбы. Седмицу назад долго смотрит на меня и вдруг спрашивает: замуж за меня пойдешь? Я и брякнула, когда дыхание пошло, – да.
– А он?
– Догадайся.
– Усмехнулся?
– Ага. Неужели любит?
– Любит… не любит… не это главное.
– А что главное?
– Главное, чтобы подошли друг другу, как нога и сапог. Дадут боги, так и получится. Когда на торг собираешься?
– Послезавтра из деревни обоз пойдет. И я с ними. Обновки к свадьбе, подарки, всякое-разное.
– Хорошо, что осени ждать не стали. Правильно.
– Сивый будто вне времени живет: зима, лето – все равно. Говорит, жизнь – дело сложное, придет день и рассечет надвое, за плечами останется прожитое, впереди грядущее.
– Безродушка рад каждому дню, ты верь ему. Он хороший.
– Самый лучший! Все сделаю, а счастливым будет!..
До самых сумерек бродила по торгу с соседками, молодыми бабами, которые все тут знали и могли подсказать. Глядела на это великолепие и диву давалась – неужели умасливается судьбинная дорога, становится ровнее? Год за годом будто подглядывала чужую жизнь одним глазком – сколько раз видела, как девки на торгу свадебные обновки выбирают, фыркала и величаво проходила мимо. Фу-ты, ну-ты! Подумаешь! Все высчитывала: если самой замуж снаряжаться, так полотна на невестино платье уйдет вдвое больше. Только ведь не толстой уродилась – плотно сбитой и белотелой, попрыгай – нигде не трясется, груди не в счет.
А потом были глупый побег из отчего дома, пленение и Безрод. Если бы не Сивый, как сложилось? Купил бы какой-нибудь дурак, «наелся» по горло и укокошил за «будь здоров». Какой спрос за убийство рабыни? Отбилась бы разок, а на второй – шкуру спустили, не придумали бы чего-нибудь хуже. Интересно, сколько девок сейчас, вот именно сейчас ходят по торгам и так же выбирает одежки? Есть на свете полуночная сторона – там тоже ходят; есть на свете запад и восток – и там девки снуют между рядами, не оторвешь от ярких тканей; есть на свете полуденная сторона – и там купцов осаждают молодицы. Огляделась туда-сюда, поморщилась. На полголовы выше прочих баб, с мужиками вровень, и не поймешь, кто на кого смотрит и удивляется.
– Тесьму покажи, всю какая есть. – Этот купчишка вышел помельче остальных, глядел снизу вверх. Впрочем, мал – не значит плох. Вспомнить только Круглока, отчаянного рубаку и храбреца.
Купец бегло смерил Гарьку с ног до головы и веско бросил:
– Зачем тебе вся? Хватит красной и голубой.
– Это еще почему? – подозрительно сощурилась. Бабы из деревни говорили иное.
Купец устало, будто объяснял такое в день по сотне раз, буркнул:
– Подруг не слушай, баба видит по-другому. Глаза у тебя, смотрю, синие?
– Ну синие.
– Стало быть, и ленты возьмешь синие и красные. А зачем тебе к синим и красным лентам желтая тесьма?.. Так все показывать или как?