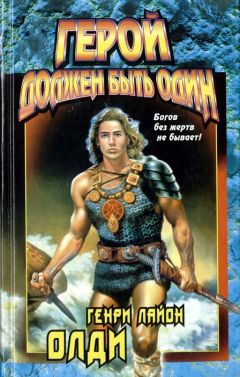А Лаомедонт-троянец – не сам ли он распространяет слухи о себе: дескать, несокрушимые стены моего города возводили Феб с Посейдоном, а я потом изгнал богов прочь и даже грозился (когда боги потребовали платы) отсечь им уши и продать как рабов!
Мятеж против Олимпийцев?!
Задумавшись, Иолай пропустил последние слова Эврита мимо ушей.
Спохватившись, он затряс головой, делая вид, что в ухо ему попала вода.
Басилей Ойхаллии насмешливо наблюдал за этими действиями.
– Вот так и боги, – Эврит зачерпнул пригоршню благовонной пены и резко сжал кулак, – как вода в ухе: и слышать мешают, и не вытряхнешь… А надо бы. Пора уже нам самим брать в руки поводья истинной власти; пора нам править людьми.
Потом подумал и поправился:
– Нам, людям.
– То есть Салмонеевым братьям? – Иолай взял со стенного выступа костяное шильце, поиграл им; тоненькое жало послушно проклевывалось между пальцами и вновь исчезало.
– То есть.
– Ясно. Осталась малость – снести Олимп. Вы, случаем, не Гиганты? – особенно сукин сын Авгий? Как там рапсоды поют? «Буйное племя Гигантов, прижитое Тартаром с Матерью-Геей; питомцы недр потаенных, взрастивших погибель богам олимпийским – о медношеие, о змеерукие, о разновсякие…» По-моему, еще и бронзоволобые. Ну как?
– Остроумно, – оценил Эврит, накручивая на палец длинную прядь, намокшую и оттого из белоснежной ставшую какой-то мутной. – Нет, Амфитрион, Гиганты – это не мы. И насчет недр Геи – чушь. Гиганты…
Он вдруг стал очень серьезен, и лицо басилея измяла, исковеркала странная судорога.
– Гиганты – наши дети. Наши и Павших. Нет, не дети – внуки. А остальное – про гибель богов олимпийских – правда.
Вода сделалась на миг нестерпимо холодной.
– Но ведь… Павшие – в Тартаре! – еле выдавил Иолай. – А те, которые на земле – чудовища! Они и на людей-то не похожи!..
– Не все. До некоторых из них – вернее, из их потомков (причем более-менее похожих на людей) – у Олимпийцев не дошли руки. Руки твоего Геракла, а также Персея, Беллерофонта и других… Мусорщиков. Например, Горгон было трое; две из них – Сфено и Эвриала – живы до сих пор. У той же Медузы было два сына; Пегаса Олимпийцы почти сразу взнуздали, чего не скажешь о Хрисаоре Золотом Луке и его сыне от океаниды Каллироэ Трехтелом Герионе. Бедный мальчик! – его смерть была для нас большим потрясением…
Иолай вспомнил рассказ близнецов, вернувшихся с Эрифии[51] и приведших знаменитых коров Гериона – проклятые твари всю дорогу разбегались, и до Микен добралась в лучшем случае половина – о битве с Трехтелым, хозяином Эрифии, и его подручными.
Бедный мальчик?!
– Ты думаешь, Амфитрион, – говорил дальше Эврит, – что Герион с твоим Гераклом из-за коров дрался? Нет, он прикрыл собой Дромос, ведущий на Флегры – колыбель Гигантов. Мир его праху… Короче, если Олимпийцы вовсю плодят ублюдков-героев – извини, дорогой Амфитрион, но это правда – то почему бы нашим детям не сочетаться с потомками Павших? Поверь, не всегда это было приятно, и не все потомство выжило; как и не все родители. Но… Зато теперь Гиганты существуют не только в песнях велеречивых рапсодов. Они – на Флеграх; и в страшных снах Олимпийцев.
– Допустим, – хрипло пробормотал Иолай, – допустим, что боги погибнут в Гигантомахии. И что с того Павшим, если они останутся в Тартаре?
– Ничего. Во всяком случае, я очень хотел бы, чтобы так и было. Пусть тешатся местью… не покидая медных пределов преисподней.
– А сами Гиганты?
– Ты разочаровываешь меня, Амфитрион-лавагет. Олимпийцы рассчитывают на помощь Геракла в грядущей битве; и не мне объяснять тебе, что значит свой человек во вражеском стане! Пару раз промахнуться, замешкаться, растеряться… подвернуть ногу, наконец! – и Гиганты выполнят свое предназначение. Зато потом воспрянувший Геракл возьмет свое… и Гигантов не станет.
«Вот они, неприятности Гермия, – понял Иолай. – Причем о некоторых Лукавый еще не знает.»
– Сын Зевса не пойдет на это, – твердо отрезал он, вовремя вспомнив, что известно о Геракле всем, в том числе и Эвриту.
– И не надо. У него есть брат – да еще такой, что Олимпийцы вряд ли заметят подмену.
– И как же ты собираешься заменить Алкида Ификлом, хитроумный Эврит?
– Мы собираемся, достойнейший Амфитрион. Мы с тобой. Неопасная рана, щепоть сонного порошка в вине – и Геракл спит, а Ификл завоевывает Микенский трон, «помогая» богам в Гигантомахии. Ведь вместе с Зевсом исчезнет и его покровительство Эврисфею, мешающее Амфитриадам восстановить законное право. Салмонеево братство поддержит вас…
– И люди будут править людьми.
– И мы будем править людьми. Мы, которые со временем займем место Олимпийцев в умах ахейцев…
«Грохоча медными тазами и бросая в небо факелы,» – чуть не вырвалось у Иолая.
– Нам будут приносить жертвы? – спросил он вместо этого.
– Естественно. Салмоней был гением, а не безумцем: богов без жертв не бывает.
– Человеческие – в том числе?
– Ну… не обязательно.
– Обязательно. Я знаю людей.
– А почему тебя это беспокоит, достойный Амфитрион? Ты ведь, не задумавшись, пожертвовал собственным внуком, чтобы вернуться в мир живой жизни! И я не осуждаю тебя за это. Более того, я на твоем месте поступил бы так же… и, быть может, еще поступлю.
Иолай встал, выбрался из ванны и принялся истово растирать себя полотенцем; некоторая гадливость сквозила в его движениях, словно он провел время в ванне с жидким навозом.
Или с кровью.
– Зато я осуждаю, – тихо сказал он. – Я – осуждаю. Не питая любви к жертвам, я не люблю и жрецов; тем более жрецов, метящих в боги. Раб, дорвавшийся до власти, – по мне, уж лучше Эврисфей в Микенах и Зевс на Олимпе! Ты одержим гордыней, Эврит-лучник, бешеной, неукротимой гордыней, чей алтарь ты готов завалить трупами богов, людей, Павших, Гигантов, героев; ты давно уже в Тартаре, басилей. Не зови меня к себе – не пойду. Одно скажу: не бойтесь Олимпийцев, братья Салмонея-Безумца. Нас бойтесь.
– Вас? – лицо Эврита побагровело от гнева. – Тебя и твоих пащенков, один из которых – даже и не твой?!
– Нет. Нас, людей – тех, кому вы с такой легкостью готовите участь жертвенного стада.
– Я никого не боюсь, Амфитрион.
– А вот это – правильно, – согласился Иолай и пошел прочь, давая понять, что разговор окончен.
Спину жег взгляд Одержимого.
10
А состязания как-то незаметно и неожиданно для всех подошли к концу. Отзвенели луки, отсвистели стрелы, отсмеялись удачливые, отругались косорукие, и к последнему дню, дню басилейской охоты, из реальных претендентов на руку Иолы-ойхаллийки осталось пятеро: немало удивленные этим обстоятельством близнецы, младший сын Авгия, имени которого никто не запомнил, потом ровесник близнецов, суровый спартанец Проной с чудовищно обожженным лицом (кажется, дальний родственник Гиппокоонта) и некий Леод с Крита, красавчик и проныра.