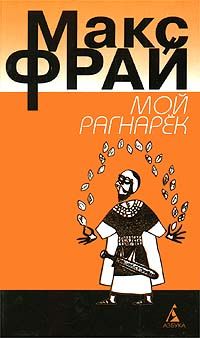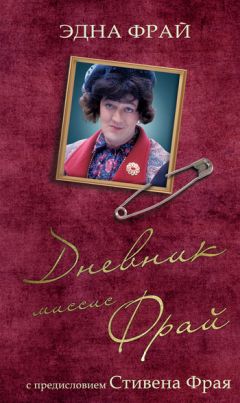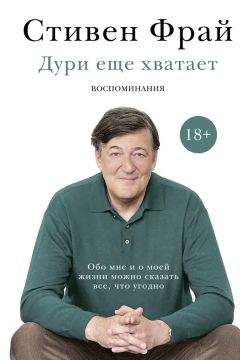Воспоминания не вызвали у меня никаких эмоций — только ленивую, равнодушную мысль о том, что вообще-то мне свойственно испытывать разного рода эмоции. Я вяло подумал, что в соответствии с традиционным сценарием «смятения чувств» мне следовало испугаться, потом — рассердиться, а потом вспомнить о совершенно восхитительной жизни, которая была у меня в последнее время, с ужасом осознать, что она закончилась — скорее всего, безвозвратно! — и взвыть от боли и отчаяния. Я немного подождал и понял, что представления не будет: ни страха, ни гнева, ни, тем более, отчаяния.
Бедняги Макса, все еще способного испытывать все эти неземные переживания, больше не было, а если он и имелся в наличии, то тихонько сидел в самом темном уголке моего сознания и молчал в тряпочку. Впрочем, оно и к лучшему…
— Все уже случилось. — Равнодушно сказал я сам себе. — Ты уже ввязался в эту заварушку, дорогуша, так что ничего не попишешь… Бедняга мексиканец — боюсь, я так и не успел заплатить по счету! Сомневаюсь, что герр Аллах потрудился исправить положение: боги — это же самый безответственный народ…
Потом я замолчал, поскольку обнаружил, что мне больше не требуется говорить с собой вслух, чтобы успокоиться: я и без того был спокоен, как удав, обожравшийся кроликов на похоронах собственной бабушки. Несколько минут — или дней? — я просто любовался сияющими песчинками под ногами, а потом обратил внимание на свои руки, аккуратно сложенные на коленях. Они показались мне каким-то чужими, но я никак не мог сообразить: в чем, собственно, разница. Поднес их к лицу — удивительно, но это пустяковое движение стоило мне совершенно титанических усилий! Некоторое время я зачарованно рассматривал собственные верхние конечности, а потом наконец понял, в чем дело, и криво ухмыльнулся: на моих ладонях больше не было никаких линий, вообще — ни единой черточки.
— Допрыгался, поздравляю! — Насмешливо сказал я сам себе. — И куда ты подевал свою линию Жизни? Я уже не говорю о линиях Головы, Сердца и Печени, заодно… Твоя мама была бы очень недовольна: она так старалась, рожала твое бренное тело, а ты за ним совсем не смотришь! Как еще голова на месте… — После этого бредового монолога я окончательно развеселился, поскольку вспомнил какую-то старинную книжку по хиромантии, автор которой утверждал, что линии на ладони, как правило, отсутствуют у слабоумных…
От внимательного изучения собственных рук меня отвлек слабый порыв ветра, нежно погладивший волосы на моей макушке — можно было подумать, что над моей головой пролетела небольшая птица. Я поднял глаза и обнаружил, что никакая это не птица.
Надо мной кружил крошечный самолетик — кажется, это была искусно сделанная модель двухместного аэроплана времен Первой Мировой Войны. Я успел разглядеть надпись на борту: голубую букву «А» и такую же цифру «6», рисунок на хвосте — смешного черного кота с желтым бантом на шее и большие сине-бело-красные круги на серебристых крыльях — они свидетельствовали о том, что прототип этой очаровательной модельки в свое время мужественно сражался за честь британской короны. Мой рот изумленно распахнулся: я был готов к чему угодно, но только не к встрече с игрушечным самолетиком в самом сердце какой-то дурацкой пустыни — я ведь даже не знал, какой точке на карте мира соответствует это странное место, и есть ли она вообще, эта точка на карте! Впрочем, природа в конце концов взяла свое, и я неудержимо расхохотался вслед очаровательному наваждению, стремительно улетающему прочь…
* * *
Афина лихо посадила свой аэроплан на крошечной посадочной площадке на плоской вершине столовой горы. Такие горы встречаются только в Эфиопии, местные жители называли их «амбами» — в те благословенные времена, когда здесь еще были какие-то «местные жители»… С некоторых пор Олимпийцы вбили в свои неразумные головы, что на земле больше нет мест, пригодных для жизни. К тому времени, когда я решил присоединиться к их безумной компании, они успели прочно обосноваться на амбах, каждый на своей, в узком кругу домочадцев — рядом с некоторыми Олимпийцами постоянно отираются смертные, к которым они, как мне показалось, привязаны куда больше, чем друг к другу.
Впрочем, у Афины нет никаких домочадцев: она любит говорить, что не нуждается в компании прихлебателей. Порой мне кажется, что она и общество равных себе едва терпит — могу ее понять! Правда, иногда к ней в гости заглядывает один бродяга по имени Улисс. Хотел бы я знать, чем он занимается в перерыве между этими короткими визитами! Парень у меня на подозрении: я бы не удивился, выяснив, что он зарабатывает себе на хлеб, латая сапоги моего бывшего побратима Локи: по крайней мере, рожа у него такая же хитрая, только могущества поменьше. Одним словом, Улисс мне решительно не нравится, к тому же, в нем ненамного больше человеческого, чем в самой Афине, хотя сам он упорно считает себя одним из смертных. По мне, так его давно следовало бы отправить в Хель и забыть, где его могила — все лучше, чем ломать себе голову, пытаясь угадать, какого рода пакость он сейчас обдумывает! Но мне кажется, что это не на шутку опечалило бы Афину.
Их отношения весьма смахивают на родственные: Улисс ее обожает, доверчиво смотрит ей в рот и охотно верит каждому слову, хотя сам непрерывно врет и ей, и всем остальным, все глубже увязая в паутине собственных незамысловатых хитростей. Про себя я окрестил этого бродягу «племянником», хотя мне отлично известно, что он не является сыном одного из многочисленных братьев или сестер Паласы.
Кстати сказать, бродяга Улисс уже давно не совал к нам свой хитрющий нос — и правильно делал! Так что я оставался единственным гостем Афины.
Впрочем, нашу с ней жизнь трудно назвать уединенной: на ее амбе полным-полно Любимцев и Хранителей, как и у каждого Олимпийца. Честно говоря, даже я до сих пор не могу постичь странную суть этих непостижимых беспокойных тварей…
Мои ноги наконец-то ступили на твердую землю, и это было чертовски приятно.
— Ты совсем не бережешь свою летающую машину… и своих пассажиров, заодно! — Сердито сказал я Афине. — Эта посадка душу из меня вытрясла!
— Во-первых, я здорово сомневаюсь, что у тебя есть душа, Один! — Весело отозвалась она. Мне оставалось только нахмурить брови: иногда эта сероокая мелет что попало, как перепивший берсерк! Она легко спрыгнула на землю, окинула хозяйским глазом окрестности, рассеянно погладила черного кота, нарисованного на хвосте аэроплана — словно кот был живым существом, настоящим зверем, способным обрадоваться ее ласке — и сердито уставилась на меня. — А во-вторых, я тебе уже сто раз говорила, что мой аэроплан — не какая-нибудь безымянная «летающая машина», его зовут Бристоль, а если хочешь показаться ему учтивым, к имени «Бристоль» следует добавлять «Эф два Бэ Файтер»… уж не знаю, что означают эти загадочные «Эф два Бэ», но «Файтер» переводится как «истребитель».