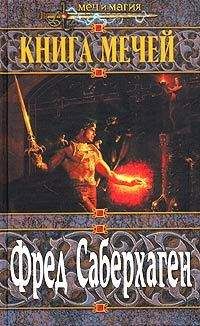Теперь по вечерам она кипятила в котелке свои отвары, а страждущие зубами, животом или прострелами, а также обмороженные сползались к костру. Ее лечение помогало, а, кроме того, она ничего за него не брала. Порядочный лекарь, может, и не потерпел бы соперничества, но здесь не было порядочных лекарей, да и о непорядочных что-то не было слышно, поэтому с каждой стоянкой болящих все прибывало. Однажды она заявила, что ей нужно вскрыть опухоль, а ножа нет. На следующий день Измаил принес ей нож, видимо, доложился по начальству и получил дозволение. Стало немного спокойнее – если вообще о спокойствии могла идти речь.
Она не была здесь единственной женщиной, но что это были за женщины, боже мой! И боже упаси было осуждать их. Глядя на них, Карен могла разве что порадоваться, что не считает себя женщиной. Но радости не было. Мало кто выдерживал в тяжких условиях зимнего похода, однако попадались и выносливые, «клячи», как их здесь называли, скорее страшные и отталкивающие, чем вызывающие вожделение, в своих пестрых отрепьях и с наведенными углем бровями. Карен никогда не испытывала пресловутого презрения «порядочной» к «солдатским шлюхам». Она их жалела, особенно одну.
Она была на сносях и по этой причине пока не годилась для своего ремесла. Ее гнали из лагеря взашей, но она боялась уходить в поле, где не было видно никакого жилья, и упорно брела за обозом, вымаливая объедки и терпеливо снося побои.
Другие выглядели немногим лучше. Но женщин было мало, и к Карен они почему-то боялись подходить, так что она могла общаться только с солдатами, которых приходилось лечить. Странным образом ее ненависть касалась их в меньшей степени, хотя их-то она должна была ненавидеть всех до единого – захватчики! насильники! Но она понимала, что, каким бы отребьем они не были, они не сами пришли в Тригондум. Их привели.
Офицеры. Вот их она ненавидела всех без исключения. Может быть, ненависть – это слишком сильно сказано, они были ей просто омерзительны. Но на них падала тень Торгерна. И все они корчили из себя маленьких торгернов, потому что на полное повторение их все же не хватало. Ближайших военачальников Торгерна она видела редко, но ежедневно приходилось встречать тех, кто поменьше. Элмера, например. Как все здесь считали – славный воин, храбрый рубака и отличный выпивоха, а по мнению Карен просто пьяная бешеная скотина. Впрочем, таковы были почти все, с небольшими вариациями. Но особое отвращение вызывал в ней Оскар – один из начальников отрядов. Хотя она не могла не признать, что Оскар был в своем роде совершенством. За всю свою богатую практику лекарки и советчицы ей не приходилось встречать человека, в котором мерзостная сущность сочеталась бы со столь же омерзительной наружностью. Маленький, приземистый, с бледной, постоянно лоснящейся кожей, глазами навыкате и огромным ртом, он напоминал Карен крупную жабу. Но жабы – существа безобидные и даже полезные, а об Оскаре этого никак нельзя было сказать. Он был из тех типов, которые, даже если им выпадет судьба мирного бюргера, никогда не могут пройти мимо собаки, не пнув ее ногой – разумеется, когда они точно знают, что собака не кусается. Может быть, собственная плюгавость (хотя слабым его никак нельзя было назвать) побуждала его унижать всех, кто был слабее его. Если бы Торгерн видел, во что вырождается его безжалостность! К несчастью, он не умел делать сопоставлений.
С Оскаром и было связано событие, которое несколько нарушило установившийся в существовании Карен порядок.
Она шла по лагерю, притомившийся конвоир тащился сзади, порядочно отстав. Судя по доносившимся из-за соседней палатки звукам, рядом кого-то били. Поначалу она не обратила на это внимания – драки здесь случались ежедневно. Но, пройдя несколько шагов, остановилась. Нет, это была не драка. Оскар бил ту самую беременную женщину, пинал ее с видимым наслаждением, приговаривая: «Вот тебе, сука! Добро б еще на что годилась, а так будешь знать, как шляться!» – а она молча ползала по снегу, пытаясь уберечь живот от ударов.
Карен стояла, глядя на это, как ей показалось, очень долго (на самом деле всего лишь несколько мгновений). Конвоир остановился поодаль, видимо, боялся связываться с Оскаром. Потом Карен внезапно быстро подошла к Оскару и схватила его за ворот куртки. От неожиданности он не успел ее ударить. Она держала его цепко, даже, кажется, слегка приподняв, чтобы его лицо было вровень с ее.
– Смотри на меня! Знаешь, кто я? – она говорила очень тихо, монотонно, не отрывая взгляда от его лица. – Если ты еще раз до нее дотронешься, превращу тебя в жабу (жаба была первое, что пришло ей в голову). Нет, не в жабу. Смотри мне в глаза! Я превращу тебя в червяка. – Быстро и тихо, ощущая свободу, с которой ее взгляд перетекает в чужую душу, не встречая никакого сопротивления. – А память тебе оставлю. И будешь ты слепой, безглазый, жрать землю и рыться в ней, и прятаться от всех, потому что курица тебя может склевать, крыса сожрать, и любой прохожий раздавит сапогом. И под этим сапогом ты будешь помнить, что был человеком!
Конвоир не слышал ничего из того, что она сказала, за исключением последних слов: «Так что бойся разозлить меня, Оскар», но выражение безумного ужаса на лице последнего отлично видел. Карен выпустила ворот Оскара и отвернулась без интереса. Женщина успела тем временем куда-то уползти и спрятаться. Оскар побежал, странно заваливаясь на бок. Карен не смотрела на него. Она не чувствовала ничего, кроме досады и крайнего раздражения – на себя, разумеется. Она не любила так делать, и не хотела так делать. Именно потому, что это было ей легко. А сейчас было легко, очень легко, никакой преграды! Из чего там строить преграду, одно гнилье… все равно, нельзя… Так что же, надо было стоять и ждать, пока эта сволочь ее убьет? Нет, этого невозможно выдержать. Единственное исключение… Было еще одно исключение, ради которого она преступила бы самой положенную черту. Но об этом она не хотела думать. Бесполезно, бесполезно!
Та преграда, которую она преодолевала без труда, а в случае могла и сломать, здесь не поддавалась совсем. Крепостной вал без единого изъяна. Стена.
Задумавшись, она начертила на снегу крест. Конвоир посматривал на нее издалека.
На следующий вечер за ней явился Измаил.
* * *
По скрипучему утоптанному снегу, среди костров (ночь, вечно длящаяся, и языки огня), в своем коричневом плаще, чрезмерно длинном и широком – она нарочно не ушивала его, и странно было не ощущать, как оттягивает плечо сумка с лекарскими принадлежностями. Измаил не сказал ей, для чего ее вызвали, но с сумкой было бы надежнее.
Еще не дойдя до княжеской палатки, она услышала крики. И у нее был достаточный опыт, чтобы, даже не видя больного, сказать – дело плохо.