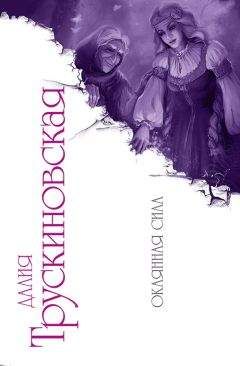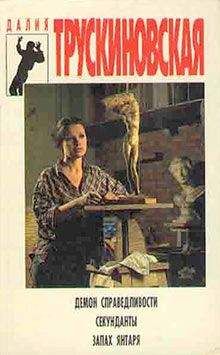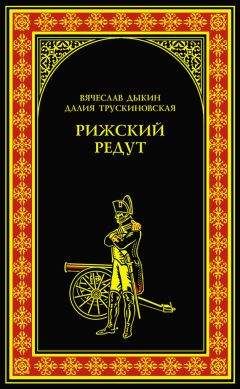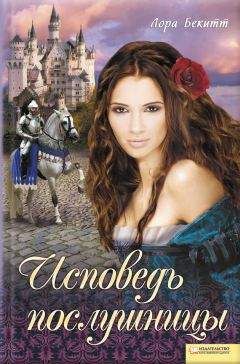И посмеивалась Алена тому хвастовству, однако держала в уме главный свой вопросец: где Пелагейка возьмет денег на шубу и на всё прочее?
Допилась карлица до того, что в пляс пошла. Видеть-то Алена не видела, а по шуму явственно представила, как вышла на середину Пелагейка в светлом, как и положено верховой карлице, летничке червчатом, рукавами пол метя, в желтых сафьяновых сапожках, как затопотала, сбиваясь, как плечиком повела, в Андрюшку глазками метнула, но не запела, а заговорила нараспев:
— Как пошла я на лыко да гору драть, а там на утках-то озеро плавает! Вырубала я три палки в те поры — костяную, смоляную да мас-ля-ную!
И — топоток! А пьяные приятели, сквозь стену Алена чует, рты поразевали — ведь этими прибаутками Пелагейка самих царевен тешит!
— Одну кинула — да не докинула, другую кинула — да перекинула, третью кинула — ох, да не попала! Озеро вспорхнуло да полетело, а утки остались!
Тут Пелагейка закрякала не хуже всполохнувшейся в камышах утки, чем и развеселила сотрапезников до слез.
— А не податься ли к Федьке? — спросил развеселый Андрюшка. — Что это — мы тут пьем, гуляем, да ведь как славно гуляем, а Феденька, чай, тоскует? Не дело!
— Феденька в Терему нынче ночью, — возразила Пелагейка, — да ведь Акулька-то дома! А и поехали! Чего тут сидеть! Тут-то мы уж, чай, всё подъели!
— Уж подъели так подъели! — расхохотался Васька. — Дай алтын, Пелагеюшка, сбегаю, пирогов возьму, у Ефремки Афанасьева их с ночи пекут!
— А по дороге заедем! Закладывай, Вася, кобылу в сани!
Алена не стала дожидаться, пока буйное общество в распахнутых шубах вывалится из дверей, поспешила прочь. Недалеко было до Кисловки, где жил с семьей Федька Степанов. Можно бы и пешком добежать — однако не для разгулявшейся Пелагейки ныне пешее хожденье, а Алене лишь того и надобно.
Заранее высмотрела она то место, где улица поворотец делает, вроде бы и не крутой, однако чувствительный. И, опередив сани, понеслась туда. Был тот поворот недалеко от Федькиного дома, так что невольные жертвы Алениного замысла не шибко бы и пострадали.
Встала она за углом, приготовилась, оберегом защитилась. Как на грех, не доводилось ей ранее тот заговор пробовать, да ведь когда-то же надо.
И услышала Алена громкие в зимней ночке голоса, и собралась, и кулачки сжала. А как поворачивать в узкой наезженной колее быстрым санкам — так и оказалась она у кобылки на пути! Руки вскинула и быстро-быстро выкрикнула:
— Именем Самого!
Главное теперь было — не побояться, не отступить. Кобылка, идя убористой веселой рысцой, высоко вздымала копыта, показавшиеся сейчас Алене огромнейшими, и вдруг оба копыта взмыли куда-то вверх, и застыли, и медленно-медленно стали опускаться чуть ли не с неба на голову ведунье.
— Силам земным повелеваю! — не теряя дыхания, хоть и облившись холодным потом, быстро выкрикнула она. — Три силы света, три силы тьмы — Ар-бар-ра! Ад под моей ногой! Именем Самого — Ар-бар-ра!
Дыханьица осталось — чуть-чуть. В глазах — одни затмившие звезды и луну копыта… И не голосом, а хрипом из самого нутра:
— Закаменей предо мной!!!
Удалось! Вскинувшаяся кобылка постояла несколько, стала медленно крениться и рухнула, ломая оглобли, назад, на спину, придавила передок саней, забилась отчаянно! С воплями кинулись прочь, в сугробы, хмельные ездоки! И стал взлетевший снег вокруг них стеной. А навалило его немерено, а спьяну, да в тяжелых шубах, не больно поскачешь…
Пелагейку Алена определила сразу — и, протянув руку, выдернула карлицу из-под рухнувшего на нее стрельца и полюбовника Андрюшки, поволокла за собой в сторону, рывком поставила на короткие ножки.
— Узнаешь? — грозно спросила.
Уставилась на нее Пелагейка, как на нечистую силу.
— Узнала, однако…
— Аленушка!..
— Ты еще скажи — ангельская твоя душенька! — оборвала Алена. — Ну, кайся — сколько и от кого получила, чтобы под кнут меня подвести да моей кровушкой государевых погубителей отмыть? Ну?
— Аленушка!.. Я ли о тебе не печалилась?.. — плаксиво завопила насмерть перепуганная Пелагейка.
— О деньгах ты печалилась! Было б на что со стрельцами молодыми пировать!
Постарела, сдала Пелагейка. Румянец и тогда был наведенный, а теперь — превыше всякой меры. А щеки-то, налитые гладкие щеки, обвисли, а личико-то — мятое, жалкое, с перепугу — жутковатое…
Знай тянет:
— Аленушка, светик, да о чем ты, да что же это?..
И ножки не держат. Быстрые были коротенькие толстые ножки пять годочков назад, да подкосились, коленки как в рыхлый снег вошли — так и с места не сдвинутся. И пестрый подол летника вокруг них, из-под шубы выбившись, по снегу раскинулся…
— Да всё о том же! — говорит, как топориком рубит, Алена. — Кто тебе велел проведать, не хочет ли государыня Авдотья Федоровна ворожить, государя от той Анны Монсовой отваживать? Кто велел подслушивать, как я в верховом саду заговор дурацкий, без замка да без смысла, читаю? Кто приказал на Степаниду Рязанку меня навести, чтобы она мне подклад дала? Кто отраву велел в кувшин подсыпать, чтобы государь выпил?
— Да и господи ты боже мой!.. Да что же это ты, светик?..
— Кто через меня хотел государыню Авдотью Федоровну покарать? Кому надобно было, чтобы она в немилость вошла? Кому охота была в обитель ее упечь?
— Ох, да и что же это ты говоришь, не пойму я никак!..
Чуть было не перехитрила Пелагейка Алену. И впрямь поверила было Алена, что хмель карлице очи застил, ничего она не разумеет. Но снова залепетала Пелагейка невнятное — да перестаралась! Лживый сделался у нее голосок!
— Бога ты не побоялась! — крикнула Алена. — А меня побоишься, блядина дочь!
Она еще не знала, что сделает с Пелагейкой. Ведь и губить хитрую тварь нельзя, пока правды не скажет. И времени маловато — пьяные сотрапезники вон из сугроба, ругаясь, выползают, а Пелагейка на них взгляд кинула, вот-вот заорет, помощи потребует!
И мысленно обратилась Алена к силе своей, потребовав сотворить что-нибудь такое, от чего правда не то что выйдет — а пташкой выпорхнет на свет Божий! Хотя света сейчас как раз и не было — разве что от луны…
Сила отозвалась в ней легким гулом, что зародился под грудью, чуть повыше живота, и растекся по всему телу, до кончиков пальцев в меховых рукавицах.
И на этот гул был ответ — свист где-то вдали, явственный свист, вроде того, с которым кидали арканы и бросались в побоище налетчики дядьки Баловня.
Даже Пелагейка услышала — а уж про Алену и говорить нечего.
Улыбнулась Алена радостно своему могуществу — и от радости на ее личике взвизгнула Пелагейка, откинулась назад, села на пятки и повалилась боком в снег, и стала отползать, выдыхая из груди тихий и страшноватый стон: