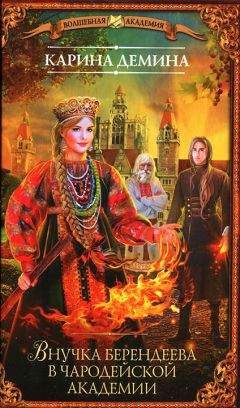Леля-красавица к младшому Гульчину на колени села, глянула на всех: найдется ли кто, слово супротив сказавши. Да только кто ныне скажет? Коль живы останемся, то и придется Неклюду сватов слать, Лелины родичи энтакого позору не забудут… а она, чую, рада будет. В ином-то разе, небось, не принял бы бортник этакого зятя. У Гульчиных двор велик, но и люден. И куда единственную дочь, красавицу и разумницу, которой на роду написано меды сладкие варить, седьмою невесткой отдавать?
Вот и ныне хмурится.
А молчит.
Дети и те тихие, страшно им. Дети, что и скотина, чуют неладное.
Да только мамки спешат сунуть в ручонки что пирожки маковые, которые на утро отложенные были, что пряники, что орехи… обнимают.
Целуют.
— Ну, — поднялся дядька Панас с рогом своим воловьим. — Давайте, люди добрые, помянем, что ли… тех, которые ушли… пущай их души, коль не отпустила их еще Божиня на землю в новом обличье, стерегут детей своих да внуков… пущай приглядят за неразумными.
И голову опустил.
Поднялися чарки.
С квасом тем же хлебным. И опустилися на столы беззвучно.
— Ешьте, — дядька Панас отер пену с губ. — Пейте, гости дорогие… как оно будет… так оно и будет, судьба, стало быть, такая… да пусть никто не скажет, что барсуковцы жизни не любят… бабоньки, заводите песню, а то и вправду, что на погосте посели…
…И завели.
Одну.
И другую… и третью… и мертвяки, что мялись за порогом, стихли, будто бы слушая… Об чем пели? А об чем придется.
О девке, которой боярин статный полюбился, да так полюбился, что позабыла она мамкины наказы, босиком побегла по росе к любому, а тот и рад… был рад, пока любовь этая в тягость не стала.
…о судьбинушке бабской нелегкой.
…о кукушкиной доле.
О том, как мужик корову на ярмарке торговал, да на козу, а козу — на барана… о женке сварливой… о теще гневливой… только песня одна обрывалась, как спешили новую начать.
А то, злое, не отступалося.
Но и не близилось.
Кружило волчьею стаей, знало, что никуда-то не деться людям от него.
— Возьми. — Арей, разломивши лепешку пополам, протянул мне кусок. И кубок свой, до краев полный. И вижу по глазам, что неспроста этот дар.
Отказать?
Иным разом отказала бы… нашла бы слова или без слов понял бы он верно, все ж не дело чужую невесту сватать. Да только ныне… может статься, до утра и не дотянем.
А на пороге смерти негоже врать.
Вовсе врать негоже.
Не себе.
И приняла я хлеб его.
И квас пригубила, что многие видели. Теперь и захочешь — не отопрешься. Да только не хочу я… не сейчас.
Не когда жизни осталось на полглотка… а страшно… неужто маме моей от так же страшно было? Зачем пошла… никто б не осудил, останься она со мною… что бабам на войне делать? А она… привыкла с малых лет за дедом… а после и за мужем.
Он-то, верно, не желал.
И уговаривал остаться. И стыдил, и грозился, но… дед сказывал, что кровь берендеева особая, уж если полюбит кого, то и до смерти, и после оное… надеюсь, что вместе они. И верю, как бы страшно ни было, да не отступила матушка с заветное черты ни на шаг.
Я не опозорю имя ее.
И то, что было вовне, будто услышало, заворчало, заворочалось, вздыхая на все голоса… и успокоилось.
— Я тебя украду. — Арей пальцы мои сжал, крепко, захочешь — не вырвешься, а уж если не хочешь, то и тем паче. — Слышишь, Зослава? Если не отдаст, то украду… по старому обычаю… в степь увезет, то и там найду.
— Не увезет…
От мнилось мне, что в степь возвертаться и Кирею неохота.
Да и нужна я ему… нужна, конечно, но не для женитьбы. У него другая на сердце лежит, только мил ли он ей… ох, до чего запуталось все, будто нити да в старой корзине перемешались, переплелись. И потянешь за одну, а вытянешь весь ком. Чего с ним делать-то?
— И хорошо… все одно не позволю.
— Не позволяй…
— Оно ушло, — сказал Ильюшка, который хлеб ни с кем не спешил делить, но катал из мякиша шарик, аккуратный такой шарик. И с него глаз не сводил, точно окромя энтого шарика больше ничегошеньки в мире и не было. А теперь от потянулся по-кошачьи, поднялся и мягкою походочкой к двери пошел.
Арей за ним встал.
И разом рассыпалась та жизнь, которую я уже для себя придумала.
Что я творю?
Смерть рядышком прошла… так не пришла… а я при свидетелях Арея суженым своим назвала… не назвала, да только все верно поняли и без слов.
На пальце перстень.
А во рту горечь хлебного квасу… и главное, что на душе ни тени раскаяния, хотя ж самое время и покаяться, и о прощении Божиню попросить, потому как крепко она не любит, когда люди обещаниями раздариваются.
Я же, выходит, сразу и двоим обещалася.
И не миновать мне беседы с бабкою… и добре, ежели беседовать случится без лозины, с которою бабка дюже справно управляется.
Глянула на ее вполглазика… а она чтой-то Станьке говорит, которая вроде слушает, да только сама на Лойко смотрит. А он у окна крутится, чисто гончак, след почуявший. Вона, нос его и тот шевелится.
— Зося, — окликнул меня Илья, — подойди, пожалуйста.
От же ж человек, чуть не помер, а все одно политесу не утратил. Сразу видна царская кровь, бають, она и колера иного, да только вруть, точно ведаю. Когда Еська Ильюшке нос расквасил, то рудая потекла, обыкновенная.
Но я подошла, потому как ныне не о крови думать надобно, а о нежити.
И той твари, что притихла.
— Чуешь? — Илья прислонился к косяку.
— Что?
— А что чуешь? Закрой глаза…
Закрыла.
Оно-то верно, что с закрытыми глазами мир слухать легчей… чую… да, чую, как детвора возится. Ктой-то хнычет, ктой-то ноет, ктой-то жалится… бабы переговариваются, сплетничают, стало быть. Мужики… не то все… чую, как сапоги скрипят.
И мыши в старостином подполе возятся.
И вновь не то.
Чую, как кружат волки, не смея подобраться ближе. И тенью белою скользит сова-неясыть… и внове не то… а где то, иное, которое было. Вот только что ж было и глядело во все очи свое нелюдские. Куда подевалось? А куда б ни подевалось, да только сгинуло.
Мертвяки же…
Остались мертвяки. Бродят по двору, спотыкаются…
— Ушло оно, — сказала я, глаза раскрывая.
— Вот и я о том, — задумчиво произнес Илья, и счастливым он вовсе не выглядел. — Не нравится мне это…
— Чтоб осталось, легче было б?
— Если бы оно осталось… — Илья присел на порожек и скрозь щит мой ногу сунул, мертвяки к ней повернулися да и… только слабые стали, сами собою на бок валились. — Так вот, если бы оно осталось, мы бы точно знали, где оно есть. А теперь мы мало того что не знаем, где оно, так еще и понятия не имеем, зачем оно вообще было… и это вот… попугали и бросили.