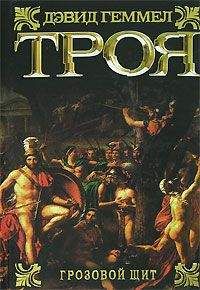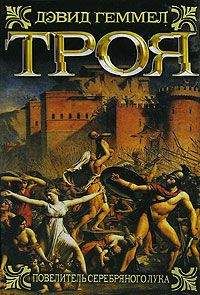Ее слова разрезали его защиту, словно холодное лезвие.
— Я знал любовь, — возразил он. — Я любил Пирию. Это не ложь.
— Я верю тебе. Как видишь, я права. Тебе почти тридцать лет, и у тебя была только одна великая любовь. Как любопытно, что это была женщина, которая никогда не смогла бы ответить тебе взаимностью. Сказать тебе, что ты увидел в этой испуганной, оскорбленной и обреченной девушке? Свое собственное отражение. Потерянное и одинокое, без друзей.
Она встала и расправила складки на хитоне.
— Банокл — мой друг, — сказал он, понимая, что пытается защититься этими словами.
Она покачала головой, лишая его даже малейшей возможности обмануть себя.
— Мой Банокл не мыслитель и не смог бы понять тебя. Он тебе друг, да, но ты считаешь его — знаешь ты это или нет — большой собакой, чье обожание позволяет тебе обманывать себя, позволять тебе верить, что ты похож на других людей. Он спас тебе жизнь, Каллиадес, и ты втянул его в очень опасную затею. Друзья не поступают так. В день, когда ты, наконец, решишь умереть, не позволяй Баноклу оставаться рядом с собой. Затем она пошла, но он окликнул ее.
— Жаль, что презираешь меня, Рыжая.
— Если я презираю тебя, — сказала она ему с печалью в голосе, — это только потому, что я презираю себя. Мы так похожи, Каллиадес. Закрытые для жизни, без друзей и любимых. Вот почему нам нужен Банокл. Он — жизнь, насыщенная и настоящая. Без всякой хитрости, обмана. Он — огонь, вокруг которого мы собираемся, и его пламя отгоняет тень, которой мы боимся.
Толстушка замолчала на минуту, потом посмотрела на него.
— Подумай о своих детских воспоминаниях, — сказала она. Перед глазами Каллиадеса возникла картина.
— Что это было? — спросила она его.
— Я был ребенком и прятался от захватчиков на льняном поле.
— В тот день умерла твоя сестра?
— Да.
Она вздохнула.
— И это твоя трагедия, Каллиадес. Ты так и не выбрался с этого поля. Ты все еще там, маленький и испуганный мальчик, который прячется от всего мира.
Высоко в горах Каллиадес прогнал от себя мысли о Рыжей. Люди разжигали костры, и он собирался спуститься вниз и поесть, когда увидел всадников в отдалении.
Сначала они казались небольшими пятнышками, но, когда подошли ближе, он узнал блеск троянских доспехов.
Его лучники в дальней части перевала тоже заметили отряд и вложили стрелы в луки. Приказав им не стрелять, он спустился и пошел навстречу маленькому отряду.
Банокл подскакал к нему и спрыгнул с уставшей серой лошади.
— Рад видеть тебя, — сказал он. — Мы спасли сыновей Реса, и теперь ты можешь принять отряд. Мне надоело командовать. — Он осмотрелся. — Где армия?
— Направляется в Карпею. Я возглавляю арьергард.
— У тебя недостаточно людей. Мы заметили орду идоноев. Они близко. Тысячи ублюдков.
— Нам нужно продержаться только два дня.
— О, хорошо, я думаю, мы сможем это сделать.
— Не мы, Банокл. Это мой долг. Ты должен отвезти сыновей Реса в Карпею. Гектор будет рад увидеть их.
Банокл снял шлем и почесал голову.
— Ты рассуждаешь не очень разумно, Каллиадес. Я с ребятами нужен тебе здесь. Эти фракийские ублюдки, наверное, побегут, увидев раскрашенные лица идоноев.
— Нет, они не побегут, — Каллиадес вздохнул и мысленно вернулся к разговору с Рыжей. — Послушай меня, — сказал он. — Это твой отряд. Урсос сообщил Гектору, что оставил тебя главным. Поэтому я приказываю тебе продолжить путь вместе с ними. Я увижу тебя в Карпее или в Дардании, если ты уже пересечешь Геллеспонт.
— Ты забыл, что мы братья по оружию?
Каллиадес не ответил.
— Будь осторожен по дороге на восток. Там есть другие, незаметные тропы в горах. На них могут прятаться вражеские всадники.
— Я думаю, ты не будешь возражать, если мы позволим лошадям немного отдохнуть, — холодно сказал Банокл. — Восхождение выбило их из сил.
— Конечно. Возьмите себе еды.
Молча Банокл повел свою лошадь вверх по тропе. Каллиадес наблюдал за тем, как всадники последовали за ним.
Было около полудня, когда они уехали. Банокл не попрощался и даже не оглянулся. Каллиадес видел, как они преодолели перевал.
— Прощай, Банокл, друг мой, — прошептал он.
— Я вижу их! — закричал лучник, показывая вниз на тропу. Каллиадес вытащил меч и подозвал пехотинцев. Далеко внизу он увидел, как солнце отражается от многих тысяч копий и шлемов.
Банокл был все еще зол, когда вел свой маленький отряд через перевал и по широким равнинам. После всего, через что они прошли вместе, почему Каллиадес обращался с ним так грубо? Это было неприятно и смущало его.
Старая няня, Мирина, пришпорила лошадь и поравнялась с ним. Не будучи опытным всадником, она выглядела неловко на гнедой кобыле Энниона, цепляясь одной рукой за поводья, а другой — за гриву лошади. Ее лицо раскраснелось от попыток сохранить равновесие.
— Далеко до Карпеи? — спросила она.
— Да, — ответил ей Банокл.
— Я не знаю, смогу ли просидеть на этой лошади так долго. У меня больные колени.
Банокл не знал, что ей ответить. Она была слишком стара для дороги в Карпею.
— Станет легче, — пообещал он ей, не зная, правда ли это. Развернув лошадь, великан поскакал туда, где Джустинос и Скорпиос замыкали их отряд.
— Ты знаешь, как далеко до Карпеи? — спросил он Джустиноса. Воин пожал плечами.
— Несколько дней пути, я полагаю. Наверное, четыре. Я не считал дни, когда мы ехали сюда.
— Я тоже.
— Олганос говорит, примерно три дня, — вмешался Скорпиос.
— Я голосую за то, чтобы мы выбрали главным Олганоса, — предложил Банокл. — Кажется, он знает, что делает.
Джустинос покачал головой.
— Слишком молод. Мы будем держаться тебя. Похоже, старая женщина чуть не падает с лошади.
— Больные колени, — сказал великан.
Скорпиос пришпорил коня и поскакал к ней. Банокл и Джустинос последовали за ним. Юноша спешился и придержал поводья, пока Мирина перекинула правую ногу через спину кобылы.
— Лошадь Энниона — доброе животное, — сказал ей Скорпиос. — Она не испугается и не сбросит тебя. Так коленям легче?
— Да, — кивнула ему старая няня, устроив Обаса поудобней. — Спасибо. Ты милый мальчик.
Полуденное солнце ярко светило, но в горах дул холодный ветер. Равнины были широкими и открытыми, мягко поднимались и опускались лесистые холмы и овраги. Высоко вверху Банокл увидел стаю гусей, которая направлялась на север, к далекому озеру. Ему всегда нравились гуси — особенно зажаренные в собственном жире. У него свело желудок от голода.