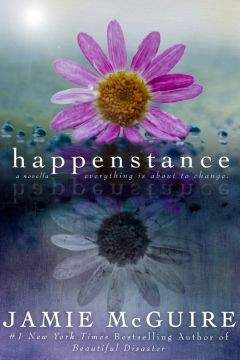Тик-так… тик-так…
И никогда не знаешь, когда именно она взорвется.
Мне кажется, что Шон сейчас должен быть здесь, потому что он брат Кима, а Ким всегда был рядом. Почти всегда. Но моего нового знакомого нигде нет — я не вижу, но и не слышу его присутствия. Абсолютная изолированная тишина.
С трудом отыскав ручку холодильника, судорожно пытаюсь отвинтить крышку от закупоренной бутыли с молоком. А может, и не с молоком — с пивом. Но мне, в сущности, все равно — в глотке уж больно сухо.
Случайно роняю на пол небольшой предмет и вздрагиваю.
Эти странные знакомые голоса.
"— Добрый день! С вами Нью-Йорк уикенд, и мы подводим итоги этой непростой недели! У нас в гостях председатель комитета по уголовным расследованиям. Здравствуйте, Джо.
— Здравствуйте, Кейт.
— В последнее время Нью-Йорк просто-таки задушила волна неожиданных исчезновений юных девушек. А как вы считаете…"
Нервы дают о себе знать. С третьей космической скоростью я принимаюсь выискивать орущий экран и, обнаружив, бессмысленно начинаю долбить по нему, пока не понимаю, что звук исчез. Похоже, я только что сломала Шону телевизор.
В груди резко начинает колоть, как будто кто-то со всей силы вмазал мне в солнечное сплетение. От пронзившей меня невыносимой боли я складываюсь пополам. В этот момент меня почти нет.
…
Через открытое окно солнце медленно опускается на мою кожу и оставляет на ней невидимые обычному глазу ожоги. Оно прожигает меня до дыр. Я лежу почти голая — чувствую на своем теле только холодные прикосновения тонкой рубашки. Мое тело лежит на полу — отдельно от моего сознания, и я почти себя вижу со стороны. Как будто умерла.
Неторопливо, как-то по-пьяному я поднимаюсь с пола. По всему телу необъяснимая дрожь. Что-то похожее на страх.
За окном солнце нещадно греет, и я не думаю — я знаю, что уже далеко за полдень.
Я медленно крадусь вдоль стен, отчаянно за них хватаясь и используя любую возможность раствориться там, где меня нет и никогда не будет. Я поступаю как настоящая плохая Кесси: специально выбираюсь на видное место, чтобы меня поймали. Потому что мне уже все равно. По-настоящему плевать.
Входная дверь закрыта всего лишь на защелку, и я удивляюсь, как Шон мог оказаться таким идиотом: оставляя дома сумасшедшую одну, нужно, по крайней мере, запирать окна и двери на все замки. Вот Ким бы меня точно наручниками к батарее приковал, чтобы никуда "случайно" не вышла.
На улице холодно — вот только солнце горячее, и пахнет жухлой листвой.
Спускаюсь по небольшой лестнице и теряюсь. Одна в большом Нью-Йорке, без Кима, совсем одна. Сердце колотится, как мотор гоночной машины, и я судорожно сглатываю, пытаясь побороть собственный страх.
В голове звучит музыка, и мне снова становится легче. А в организме острая нехватка кофеина, в карманах — ни цента, а в глазах по-прежнему пусто. Все также ничего не вижу.
Холод возвращает меня к жизни, и я вовремя вспоминаю, что я почти голая.
Приходится вернуться.
…
— Что это?
В руках у меня крохотная шероховатая таблетка, такая неопасная и такая подозрительная одновременно. Но я вовремя одергиваю себя: брат Кима не стал бы пичкать меня всякой дрянью.
— Успокоительное, — разъясняет мой новый знакомый таким раздраженным голосом, будто вынужден объяснять мне такие простые вещи, как основы молекулярной физики. — Мне казалось, тебе сегодня плохо спалось.
Я не знаю, откуда он знает. Понятия не имею. Но это каким-то образом заставляет меня довериться ему. Я глотаю таблетку, и она тут же застревает в горле, противно затрудняя дыхание. Вновь и вновь я сглатываю, пока моих рук, наконец, не касается что-то холодное.
— На, выпей воды, — по-отечески наставляет Шон, и в этот момент я думаю, насколько он похож на Кима: ему тоже нравится надо мной покровительствовать.
Я делаю большой глоток, и крохотная противная таблетка невозмутимо проскакивает дальше по пищеводу. Но во рту по-прежнему чувствуется какая-то необъяснимая горечь. Как будто вместо какого-нибудь сэндвича мне в глотку запихнули пригоршню пятицентовиков.
— Тебе ничего не нужно? — интересуется он, но я растерянно начинаю мотать головой.
С какой стати эти двое так трясутся вокруг меня? С какой стати Ким жертвовал своей несомненно драгоценной задницей ради меня? Я не верю в такие вещи. Не верю в благотворительность, в бесплатные рождественские наборы, которые раньше нам так любезно выдавало начальство, не верю в сыр в мышеловке.
Но, возможно, я всего лишь мышь, очень, очень голодная мышь.
— Нет, спасибо, — туманным голосом отвечаю я, тем самым ясно давая понять, что больше не желаю с ним разговаривать.
Хотя давать таким как Шон тонкие намеки — как об стену горох.
— Знаешь, Кесс, ты странная. Братец говорил, что ты та еще стерва: себя в обиду не дашь, защищать тоже не позволишь, да еще и в морду за это вмажешь, — хмыкает Шон.
— Ким так и говорил? — вскидываю бровь.
— Так и говорил, — подтверждает парень и ждет, пока я объясню ему, кто же из нас — я или Ким — ненормальный.
— Наверное, он говорил про другую Кесси. Ты перепутал свое место в самолете, — язвительно замечаю я и, схватив свою чашку с кофе, резко удаляюсь вдоль уже знакомых стен. Не вижу, но чувствую.
Кофе в моей руке плещется, обдавая меня крохотными колкими порциями кипятка.
Сжимаю губы, чтобы не вскрикнуть и не показаться слабой.
Оказавшись в комнате — в "своей комнате" — я быстрым движением опускаю чашку на прикроватную тумбочку — наугад, авось попаду, — и, уже чувствуя подступившие к горлу рыдания, бесчувственным мешком валюсь на кровать. Мне как никогда обидно.
Он и вправду так обо мне думает? Думает, Кесси — редкостная сволочь, смертельной петлей затягивающаяся у него на шее? Я для него как балласт — тяжкий груз, который сбрасывается при первой надобности.
Я уже чувствую, как по щекам нещадно катятся слезы, а в горле вновь становится сухо и гадко, как будто я одним махом проглотила горсть этих самых "успокоительных" и не сделала следом ни глотка воды.
Мне хочется рвать и метать, хочется достать Кима из-под земли и от обиды надрать ему задницу. Хочется плюнуть ему прямо в лицо, высокомерно, надменно. Хочется быть такой, какой он меня себе и представляет. Хочется быть гадкой, злобной сучкой, вечно сующей нос в чужие дела.