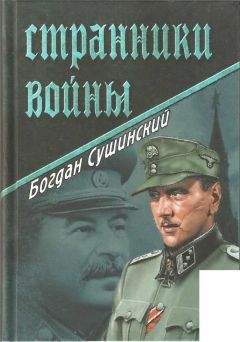— Королева ищет человека, который оказался бы полезен наследнику. Она не вполне понимает, каким должен быть такой человек. И не прекращает поиски. И каждый, кого она направляет в «малый двор», разочаровывает ее. И ты — в том числе. Что не может не печалить одного королевского конюшего.
Ренье опустил голову, покусал губу. Он понимал, что запутался. Жалеть принца нельзя — Талиессин не в этом нуждается. Свести с ним сердечную дружбу — не получилось. Но что же делать?
— Стать праздником, — услышал он голос дяди. — Это же так просто... и так весело! Я тебя научу.
* * *
Ренье дал клятву слушаться Адобекка во всем, но в глубине души сомневался в том, что затея дяди будет иметь успех. Молодому человеку она представлялась довольно примитивной. И к тому же она отдавала дурным вкусом. Но Адобекк и слышать не хотел никаких возражений.
— Первая шалость и должна быть простенькой, такой, чтобы пронять самого тупого из придворных! После перейдем к более утонченным выходкам.
Ежемесячный бал должен был состояться в дворцовом саду, среди фонтанов и специально подстриженных к этому случаю кустов. На газонах расстелили ковры, для музыкантов устроили специальные беседки, где имелись скамьи для отдыха и столики с напитками.
Бал, как правило, выплескивался за стены дворца: танцевали в этот вечер — и всю ночь — и за второй, и за третьей стенами столицы. Те музыканты, которых на этот раз не пригласили играть для королевы и ее приближенных, развлекали публику попроще. Некоторые придворные также выходили в город, находя, что там веселье проще и шумнее. Многие искали любовных приключений с горожанками, поскольку — как объяснял Адобекк подобные вылазки — «число королевских фрейлин ограничено».
Адобекк решил вывести Ренье переодетым в женский костюм, наброшенный поверх мужского — для верховой езды.
— Ты будешь неотразим, и никто не поймет, кто ты на самом деле, — уверял Адобекк.
— Можно подумать, дядя, что мое лицо еще не примелькалось при дворе, — возражал Ренье.
— Представь себе! — смеялся Адобекк. — Мы перекрасим твои волосы, высветлим брови, добавим румян и изменим цвет губ... Люди ужасно ненаблюдательны. Сомневаюсь, чтобы тебя узнали.
— Почему мне кажется, что это развлечение вы устраиваете исключительно для себя? — осведомился Ренье, когда дядя самолично принялся накладывать краску на его волосы.
— Ну, предположим, потому, что ты — трусоватый зануда, — сказал дядя.
Ренье подумал немного над услышанным.
— Никогда не предполагал, что ко мне подходит это определение.
— В таком случае, измени мое мнение о тебе, — заявил Адобекк.
И Ренье сдался.
Он позволил конюшему сделать с собой все, что тому заблагорассудилось. Он стал темно-рыжим, его губы покрылись розовой помадой, неестественно черная полоска оттенила ресницы, а слишком светлые брови почти исчезли на загорелом лбу. Просторная женская одежда с множеством кружев и лент обвила его плечи, полупрозрачные перчатки обтянули руки, развевающаяся вуаль пала на волосы, прикрепленная у висков двумя блестящими зажимами.
Из зеркала на Ренье смотрела женщина странной, почти неотразимой притягательности. Она ничем не напоминала молодого человека, которого знал Ренье. Ее тайну не раскрыл бы даже Эмери. Ренье неуверенно улыбнулся, и женщина в зеркале ответила ему вызывающей усмешкой. Ничего в ней не соответствовало юноше, младшему племяннику Адобекка.
Конюший любовался собственным творением.
— Нравится?
— Не знаю... Не могу определить. Странное ощущение.
— Всегда любопытно перестать быть собой и сделаться кем-то еще... — заметил Адобекк. — А ты мог бы в такую влюбиться?
Ренье пожал плечами.
— Я не могу влюбиться в самого себя.
— Заявление опрометчивое и в высшей степени банальное! — отрезал Адобекк. — Именно этого мы и должны избегать в первую очередь! Ты должен превратиться в фонтан парадоксов. Ты знаешь хотя бы один парадокс? На первый случай пригодятся и чужие, а потом научишься сочинять собственные.
Ренье пожал плечами.
— Я не вполне понимаю, дядя, какой смысл вы вкладываете в понятие парадокса. В Академии...
Адобекк потемнел лицом.
— Только не нужно здесь всех этих академических... — Он пожевал губами. — Не могу подобрать пристойного слова.
— Диспутов, — подсказал Ренье.
Дядя махнул рукой, как бы отметая Академию и вообще мир точных определений в сторону, туда, где находятся все выгребные ямы мира.
— Ты видел когда-нибудь, как бьет струя фонтана? А вокруг беснуются огни, скачут люди, летают шутихи? Вот таким ты должен быть. Иначе — грош тебе цена. Ты здесь не только для того, чтобы отвлекать внимание, — он понизил голос, — врагов королевы от Эмери. Ты здесь для того, чтобы Талиессин был счастлив. И я искренне надеялся на то, что ты справишься с такой несложной задачей.
Он взмахнул рукой и сделал сложное движение пальцами — вероятно, долженствующее изображать крученую, развеселую струю фонтана.
И все равно Ренье смущался и втайне не переставал опасаться.
Появление незнакомки было встречено, однако, наилучшим образом: переодетого юношу угощали сладостями, приглашали танцевать и нашептывали ему любезности. Он не знал, как быть: от двусмысленности положения у него кружилась голова, было и неловко, и сладостно.
Никогда прежде такого с ним не случалось. Ренье нередко заводил мимолетные интрижки с женщинами в Коммарши. Горожанки охотно проводили время со студентами, особенно с богатыми, но не гнушались и бедных: молодые посетители Академии умели развлекать. К услугам парочек были все простенькие соблазны небольшого городка: прогулки по рынку, скомканные постели на чердаке или в уютной комнатке, уставленной вышивками в резных рамочках, а поутру — кислое вино, купленное накануне в лавочке внизу, и остывшие пирожки того же происхождения.
Эта близость была чисто телесной, она не затрагивала сердца, не касалась глубин естества. В этом смысле она была абсолютно чистой — как чисты бывают молодые животные, которых влечет друг к другу простой, ясный инстинкт.
Сейчас же Ренье погрузился в совершенно иную стихию: он тонул в море чувственности, окруженный желанием, которому не суждено будет осуществиться и цель которого — не реализация, но лишь усиление. Своего рода искусство для искусства. Влечение ради еще большего влечения. И Ренье одновременно испытывал это влечение и являлся его объектом. И еще, он понял это, принадлежность к мужскому или женскому полу не имела в данном случае никакого значения.
«Никогда не знал, что жажда плотской близости может быть бескорыстна, — думал он, изгибая талию под рукой очередного кавалера, увлекающего его в танце, — и что это бескорыстие может быть таким нечистым, таким... волнующим и одновременно с тем пачкающим мысли... Адобекк — развратник!»