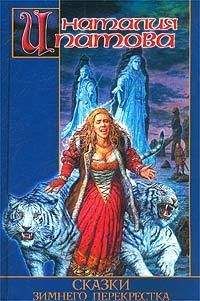Там, на улице, похолодало, и в голубом воздухе сыпался первый снег. Агнес перевернулась на живот и подперла кулачком кудрявую голову. Ах, эта ночь! Глупые разговоры растревожили ее воображение. Стеклянные ангелы, звеня, прорывались сквозь снегопад, торопясь кому-то на выручку или спеша с благой вестью, а выше их торных путей скользили златые ладьи с влюбленными духами. Звездам не виселось спокойно, они вибрировали на своих местах и позванивали как крохотные колокольчики.
Она обреченно вздохнула. В такую ночь даже звезде не удержаться от падения. А-ах! Противостоять инкубу невозможно. И каким бы был тот не принадлежащий ни земле, ни небу недотепа, явись он по какой-то нелепости к ней, к Пышке Агнес, а не к Леоноре или Магдалене, отвернувшихся друг от дружки на соседней резной кровати, не к близняшкам Лукреции и Бианке, даже если бы и сумел отличить одну от другой, и не к изысканно куртуазной Изабель, источающей из груди лишь безмолвный завистливый стон.
Воображение, круто замешенное на лунном свете, в единый миг обрисовало в ночи характерное строгое очертание скулы, великолепное гордое надбровье, сдержанный суровый рот. Лунный свет сплелся и густой гривой потек на угловатое юношеское плечо. Агнес шумно вздохнула и разрушила чары. Даже самого сексуально озабоченного духа в момент вымело бы в окно дыханием слаженно сопящих шести небесплотных дев.
Сказать по правде, она ничего не имела бы против визитов духа с подобной внешностью. Призрак, явившийся ее внутреннему зрению, подозрительно напоминал Марка… но определенно не относился к категории похотливых. В нем нашлось одновременно и меньше, и неизмеримо больше: стремление взгляда и мысли, но — ни слова, ни жеста и ни намерения. Сердце впитало его стремительно и беззвучно, как губка — воду, взяло и поместило, храня, в самый свой укромный уголок, со всей его несчастной и зловещей тайной, и, пожалуй, этот ее собственный секрет был не из тех, какими следует с кем бы то ни было делиться. Если она дорожит репутацией, а пуще того — жизнью Марка, ибо то, что сказал ей по этому поводу отец, само собой разумелось. Все-таки бесплотный дух — это одно дело, а деревенский пастух — совсем другое.
Люди, склонные все низводить до своего разумения, осквернили слово «любовь». В том контексте, в каком Агнес слышала его, оно имело слишком плотский, чтобы не сказать — скотский смысл. Марк — чистое серебро, молитвенный порыв души, жесткий отблеск на поверхности воды, звук стали о сталь, плотского в нем и не разглядеть как будто. К тому же, как выяснялось, она была рыцарской дочерью до мозга костей: пока Марк находился на этой ступени иерархической лестницы, речь шла лишь о покровительстве.
Власер будет здесь столь же беспомощен, как она сама. Ему, как и Агнес, видна и ведома лишь одна сторона и одно направление, сугубо, можно сказать, плотское. Он способен идти одновременно лишь по одной тропе. А Марка нужно не вычислять, а угадывать. Неистовая и восторженная страсть души — вот что ей нужно. И человек, способный не столько плестись у факта в поводу, сколько взмыть над ним, окинуть его взглядом с орлиных высот, обнаружить, что целое куда больше одной лишь в упор видимой части. Как одноглазый пес, способный видеть ветер, и слышать, как растет трава. Человек, которому она смогла бы довериться безгранично. Еще более беззащитный перед лицом невежества, чем она сама: чтобы она могла держать его в руках.
Она еще раз перевернулась с бока на бок и решила, что без Локруста ей не обойтись.
Хоть она не подала и виду, ее встревожили и испугали последние слова отца о том, что Марк теперь в ее власти. Она могла — и была вправе! — сломать свою игрушку. Глядя в голубой проем окна, где сыпались с небес мелкие острые льдинки, она отправила по адресу безмолвную мольбу, чтобы ей достало удачи и такта правильно заплатить свой долг. До той же поры само собой разумелось, что она будет хранить его в сердце. Кто знает, может, ему от этого будет какая-то польза.
И все же ее немало утешало сознание, что ни одна красавица для Марка достаточно не хороша.
6. У КОГО-ТО НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ
Вполне невинные недоумение и растерянность отражались на лице Власера такой досадой и даже яростью, что встречные в узких коридорах невольно отшатывались к самым стенам, опасаясь задеть его хотя бы краем одежды.
— Сви-но-пас? — только и сумел выговорить он десять минут назад.
— На данный момент не суть важно, — промолвил, явно забавляясь, герцог, — кого он там пас. В конце концов, если он не годится, ты всегда можешь об этом сказать, и мы будем знать, что ошиблись.
Он обменялся быстрым взглядом с дочерью, внимательной темноглазой толстушкой, сидевшей у торца длинного стола.
— Ясно, — угрюмо произнес ландскнехт. — Только ребятам не слишком понравится, что вы равняете с ними холопа.
— Я отдаю его под твое начало, — заметил герцог, — а стало быть, под твою ответственность. Я буду огорчен, если по досадной случайности твои молодцы учинят над ним безобразие, в котором, как водится, не найти виноватых.
— Что ж я, еще и нянькой к нему приписан? — буркнул Власер вполголоса, скорее по привычке покочевряжиться, прежде чем исполнять приказ. Д’Орбуа тонко улыбнулся и промолчал: по негласному уговору Власеру спускалась некоторая вольность языка. Это позволяло рассчитывать на его безусловную добросовестность в исполнении. За что его, собственно говоря, и держали.
Ибо несмотря на то, что Власер зарабатывал себе на жизнь солдатским ремеслом, во всем, за что бы он ни брался, свойственна была ему медлительная крестьянская основательность. Коренастый, невысокого роста, крепко за сорок, с первого взгляда Власер производил обманчивое впечатление не слишком далекого увальня. Жизнь протащила его по всем дорогам континента, с головой окуная во все европейские дрязги, подолгу задерживая там, где они разрешались силой оружия. Случалось, он приберегал для исповеди такие грешки, что капелланы замирали от сердечного спазма, однако же у него и мысли не возникало утаить содеянное от Бога. Будучи неграмотен, он свято чтил написанное на бумаге, индульгенцию или воинский устав — не важно. Порядок был для него непреложен, герцога д’Орбуа он интуитивно и тяжеловесно уважал и служил ему верой и правдой.
Он командовал дружиной герцога, потому что был сильнее всех. Временами кто-то из новичков пытался опровергнуть его раз и навсегда установленный авторитет, тогда Власер его бил и рассчитывал оставаться наверху еще очень долго. Достаточно долго, чтобы не заглядывать дальше. Начальник стражи, воевода, коннетабль… Самому ему нравилось слово «центурион». Оно приятно перекатывалось во рту. От него веяло древней римской добротностью, когда люди знали толк в уложениях, когда большой военный лагерь разбивали за час, а обносили рвом — за два, когда сквозь холмы, болота и чащи прокладывали прямые мощеные дороги, и на сто ярдов в обе стороны от них вырубали лес.