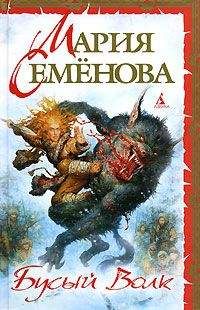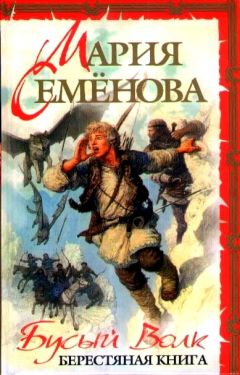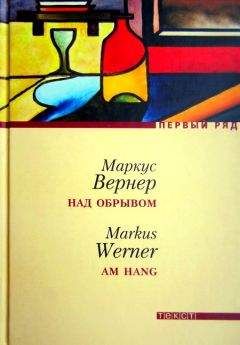– Пошли, Колояр, – сказала Осока.
Резоуст вдруг бухнулся перед ней на колени и двумя руками оттянул ворот.
– Вот тебе моя шея! – закричал он, и голос срывался то ли от дурного хохота, то ли от слёз. – Сворачивай с неё головушку победную,[10] если иначе никак злой вины перед тобой не избуду!..
Над плетнями, ограждавшими дворы малых семей, разом выросли любопытные лица. Осока потом говорила, что именно в этот миг, глядя на подставленную Резоустову шею в отметинах от невольничьего ошейника, она уразумела причину его смертной ненависти к Колояру. И всякая девка уразумела бы, эта мудрость вместе с ними рождается. Не Колояра Резоуст ненавидел, а её, Осоку, любил. Окажись на месте Колояра Белки кто угодно другой – Зимородок, Волк, Росомаха, – он и этого другого точно так же попытался бы извести. Знать, думал, девка поплачет, поплачет, а после и вскинет ему, Резоусту, руки на плечи, не одной же век вековать.
Любовь каторжника была уродливой и жестокой, как вся его минувшая жизнь, она не возвышала его, а толкала на непотребства. Заставляла причинять боль другим и самого обрекала на горькие муки. Но всё же это была любовь, и, глядя на нешуточное страдание Резоуста, Осока тихо проговорила:
– Скажите, добрые люди, этому молодцу, что я сердца на него не держу. Пошли, Колояр.
С тем и удалились по улице, направляясь к избе Осокиных матери и отца, а Резоуст остался на коленях, с разодранным воротом, у опрокинувшегося ведёрка, и было ему, надо думать, не слаще, чем у Соболя в железных тисках.
Вороная Грива была не просто холмом, что стоял бы сам по себе посреди широкой равнины. Здешних земель достигали отроги словутого[12] кряжа Камно. Крутые узкие гряды, такие же скалистые, как сам коренной кряж, тянулись с севера, становясь то выше, то ниже, и венны называли их гривами. Соседи-сольвенны пользовались другим именем, понятным без толмача, но непривычным для слуха – «перешейки».
Вороная Грива подходила к этому слову больше других, ибо вздымалась круто и высоко, действительно как шея коня, непокорно вставшего на дыбы.
«Я же спал и видел, как бы по достоинству отплатить Колояру добром… А явился случай, что содеять сумел? Да ничего…»
Бусый с Летобором достигли подножия Вороной Гривы. Скоро придётся отвязывать лыжи и лезть дальше так.
На самом деле вилл можно было разглядеть не только отсюда. Летобор придумал этот поход-приключение много лет назад, придумал нарочно для сынишки, когда тот только стал подрастать. Путь, который давался сейчас Бусому легко и в охотку, для тогдашнего мальчонки был немалым свершением. Свершение, за которым следовала награда!.. Чего, спрашивается, ещё надобно?!
«…И ничего не содеял. А мог?»
Бусый подхватил горсть липкого влажноватого снега, разбил о мокрый лоб, вытер лицо. Белый след на левой щеке тотчас дёрнула знакомая боль, но эта боль жила с ним всю его жизнь. Она была вроде знакомой гадюки, обитающей в давно известном распадке. Изволь с ней считаться, не топочи где попало, не то будешь укушен. А истреби гадину,[13] и чего-то будет недоставать.
«Вот если бы я, заметив страшную птицу, сразу громко о ней закричал? Аж на всё Потешное поле?»
Любил же Бусый задаваться вопросами, на которые не существовало ответов. «Без толку радеть о том, чего всё равно не изменишь, – улыбнулась бы мама. – Просто зарубай на носу[14] и живи дальше, сынок!» Бусый посмотрел в широкую спину шедшего впереди Летобора. Нет, отец ему бы вряд ли что-то сказал, разве подмигнул бы. Не мужчина, кто не учится каждый день. И в особенности на ошибках. Вольных и невольных. Собственных и чужих…
– Лыжи прочь, – объявил Летобор, останавливаясь у большого обломка тёмно-серого слоистого камня. – Пришли.
Здесь кругом ещё рос прозрачный, светлый сосновый бор, богатый грибами и крупной, удивительно сладкой черникой. Но чуть выше сосны начинали мельчать, становились корявыми, приземистыми и однобокими. Ветви и макушки тянулись все в одну сторону. И становилось понятно, откуда венчавший Гриву юр[15] получил имя: Ветродуй.
Летом на скалы взбирались олени и дикие козы, спасавшиеся от кусачих мух и мошки. По зиме спасительные утёсы превращались в ловушку. Те же козы и олени взлетали на отвесные скалы, удирая от голодных волков. Умные волки не пытались карабкаться, куда им не было ходу. Они усаживались дожидаться внизу. И спустя время добыча, окоченевшая на юру, сама падала к ним.
«А раскричись я о птице, сейчас срама не обобрался бы…»
Мальчик подхватил лыжу, не нашедшую опоры на мокрой поверхности камня и взявшуюся падать. Вот что получается, когда слишком зримо представляешь себе ехидные рожи Зайчат и их дружные вопли: «Кликуша, кликуша новая объявилась!»
Бусый привычно нашёл взглядом на снегу быстрый беличий след. И почти тотчас по рукаву отцовского кожуха взбежал проворный зверёк, устроился на плече. Бусый улыбнулся и протянул руку погладить. Лесной родич ласку принял…
Лишь на миг Бусому показалось, будто белка готова была отстраниться. Перескочить на другое плечо…
Нет. Показалось.
Только вспомнилось почему-то, как прошлой зимой Бусый, движимый глупой мальчишеской удалью, забрался сюда в самые глухие морозы и без Летуна. И навстречу ему, ничуть не скрываясь, вышел большой волк. Бусый от удивления остановился, стал рассматривать зверя. Матёрый преспокойно подошёл, обнюхал затаившего дыхание мальчика… Весело помахал пушистым хвостом. И – пропал, как вовсе не бывало его… А Бусый смотрел в ту сторону, где он скрылся, и думал, как славно было бы озябшие руки в его шубе согреть…
Ох и скакал же кругом хозяина недовольный Летун, когда вечером Бусый возвратился домой! Ох и ворчал же, обнюхивая дурака, старикан Срезень!..
Обходя плечо скалы, сын с отцом одновременно придержали дыхание, сделали ещё шаг – и ветер, давший название гребню, сразу выжал слёзы из глаз. Проморгавшись, Бусый принялся оглядываться, ища, не сверкнут ли где в ломаных каменных складках кроваво-красные искры?
Тёмные блестящие сланцы действительно были похожи на волны конских шелковистых волос, извитых прихотью ветра. И в этих роскошных волнах красными бусами путались щедро рассыпанные венисы. Парни Белки и Зайцы, вступая в пору жениховства, почти все лазили на Ветродуй, ища самые яркие, прозрачные, бесскверные камни. Оправляли их в бронзу и серебро, дарили милым славницам серёжки и перстни. Белок и Зайцев называли добрыми мастерами, при этом считалось, что и самая тонкая работа, и лучшие камни давались только тем, кто не просто покорялся родительской воле, но был вправду влюблён.
«И я однажды на юр за камнем приду…» – по-хозяйски гордо сказал себе Бусый.
Сорванцы вроде него дерзко лазили сюда тайно колупать сланец, но, как и полагалось им, находили смешные крохи. Что-то вроде обещания, наполовину насмешливого. Дескать, подрастайте, там поглядим.
Лишь для того, кто заслужит, ветер вобьёт в трещины камня текучую воду, мороз заморозит её, а солнце согреет. Чтобы под ударом молотка вдруг обрушился целый пласт, открывая горящий вишнёвыми пламенами желвак…
Заслуживали не все. Тут и там набрякший снег оседал над горловинами напытков.[16] Одни ямы были совсем мелкими, другие – опасно глубокими. Одни подарили копателям заветные камни, другие только зря подразнили их и измучили.
«Вот придёт сюда за камешком Колояр…»
Бусый, ясное дело, знать ничего не знал о светлой бусине, только что украсившей волосы парня, но отчего-то не сомневался: скоро Колояр снарядится на Ветродуй за жениховскими подарками для Осоки. Будет ли Бусому позволено пойти сюда с ним и помогать, чем сумеет?
…А ещё говорили, что невесты, принявшие в подарок венисы с Вороной Гривы, хранили их в сундуках, нечасто доставая на свет. Не на каждый день были тёмно-алые камни, грозные в своей красоте…
Красный цвет, цвет страсти и ярости, рвущейся наружу силы, беспощадной битвы… Кровь, жизнь и смерть, рождение и гибель… Всё вместили в себя пламенные венисы, всего можно было дождаться от них. Бусый с отцом шли осторожно, проверяя палками перед собой снег.
Венисы повелись оттого, что когда-то на Вороную Гриву пал из-под облаков Змей, побеждённый Богом Грозы. Этот же стародавний удар расколол окраины Ветродуя на множество высоких отвесных козьих отстоев. Время обломало их на разной высоте, образовав исполинские ступени. Кто-то усматривал в развалинах каменных громад даже не ступени, а руины величественных чертогов. Бусому нравилось думать, что некогда на юру стоял храм. Святыня, ещё не вполне принадлежащая Небу, но и не вполне уже пребывающая на Земле.
Как чудно и страшно было стоять на самой-самой вершине, выше которой были только лёгкие мазки ледяных перистых облаков!.. Каким пустым и далёким вдруг сделалось всё не имевшее отношения к небесам и чуду полёта! Резоуст, привидевшаяся страшная птица, даже чаемое и жуткое Посвящение, это всё было – тьфу, песчинкой в глазу. Прядями невесомого тумана, несущимися мимо крыла. Сколько раз приходил сюда Бусый, столько же раз долгожданная встреча ему отзывалась напоминанием о Несбывшемся.