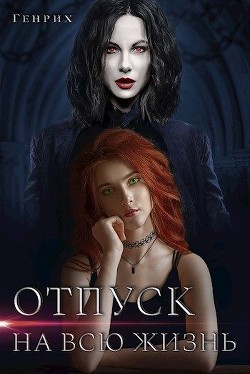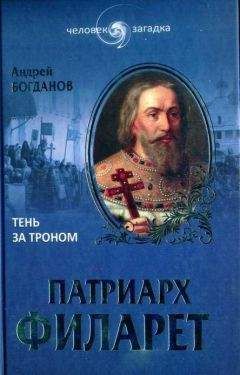«Родители» отстают, но позже я понимаю, что накаркала.
17 марта, вторник. Урок физкультуры.
– Как же так, Молчанова? – физкультурник искренне расстроен, увидев мою руку в лангетке.
Копирую его выражение лица, развожу руками.
– Издержки бескомпромиссной борьбы с уличным бандитизмом, Валерь Васильевич.
– Она с Грибачёвой Машкой подралась! – гомонят одноклассники. Учитель грустно кивает.
– Опять Грибачёва! Когда же это кончится?
– Вообще-то я победила, – осторожно его успокаиваю, – Я руку об её голову разбила.
– И как голова? – кажется, он не верит.
– В полтора раза шире стала, Валерь Васильевич! – бодро заявляю я, – Будьте уверены, ей намного больше досталось!
– Она Машку ногами избивала. Я видела, – Юля добавляет приятных, как оказалось, подробностей.
Очень мне редко доводилось видеть, чтобы человек воссиял таким счастьем. В спортзале стало заметно светлее. Конечно, совпало так, что солнце как раз в этот момент выглянуло из-за облаков и через огромные окна залило ярким потоком весь зал. На пол легли косые тени от межоконных простенков. Но как удачно совпало!
– Ты Грибачёву ногами била? – восторженно спрашивает физкультурник, – Как тебе удалось?
– Вот так! – я делаю несколько энергичных движений руками и ногами. А в конце хватаю воображаемого противника руками и со свирепым рычаньем вонзаю в него клыки. Класс покатывается со смеху, только Юлька улыбается как-то неуверенно.
Потрясённый и счастливый учитель не делает классу ни малейшего замечания.
– О, Господи! – возводит очи вверх, – Ты услышал мои молитвы!
Класс изнемогает от смеха.
– Молчанова! – трубно провозглашает учитель, и класс стихает, – Пусть меня лишат премии, пусть мне навешают выговоров, но я торжественно обещаю тебе. Ты можешь делать на моих уроках, что хочешь, можешь вообще не приходить, но пятёрка за четверть тебе обеспечена. И за год тоже!
– Как это я не буду ходить на свои любимые уроки?! – возмущаюсь я. Учитель умиротворённо улыбается.
На уроке я почти ничего не могла делать. Турник, брусья, отжимания, игры, всё отпадает. Но я могла помогать учителю, где отмашку дать при старте, где роль полевого судьи исполнить. Так что побегать мне пришлось, к моей радости. И Валерий Васильевич, как обещал, уже не делал мне замечаний на мои вопли типа «Шевели булками, жиробасина! Хиляй шустрее, колченогий!». Да и одноклассники давно перестали обижаться, для меня все девчонки, даже худенькие, были «жиробасинами», а мальчишки – «колченогими».
С остальными предметами тоже всё замечательно, только устно могла отвечать. Так что в итоге я в большом плюсе. Да, серьёзная травма, но: мой авторитет в школе поднялся на невиданную высоту, уроков делать не надо, Сидякова – на положении служанки. Это не считая самой победы в схватке с сильным противником.
19 марта, четверг. 09:30, Сокольнический РУВД.
Мы с Эльвирой в кабинете следователя, или дознавателя, я не очень в этом разбираюсь.
– Старший лейтенант юстиции Семёнов Андрей Степанович, – представляется мужчина в синей форме лет тридцати пяти. Присматриваюсь. Делаю вывод – зануда, что, впрочем, характерно для стряпчих и судебных.
Мужчина сух и строг, Эльвира напряжена, я в предвкушении очередного веселья. Повестку мы получили позавчера. Папахен тут же принялся названивать кому-то из юрслужбы корпорации, долго совещался. Мы могли для начала опротестовать время, как так, в учебное время школьницу выдёргивать? Но решили не шуметь, у меня освобождение от почти всех занятий. Эльвира пошла со мной, как официальный ответственный за меня, несовершеннолетнюю.
От методичных безэмоциональных анкетных вопросов я сначала чуть зевать не начала. Потом нахожу выход, напряглась и начала отвечать таким же сухим лишённым всякого выражения голосом. Эльвира покосилась на меня, но придраться было не к чему. Через три минуты ловлю следователя на том, что он придержал зевок. Ага! Бессилен против собственных методов.
– Вы попали в очень неприятную ситуацию, Молчанова Дана, – сухо извещает меня следователь.
– Что случилось? – мой голос ещё более сух и монотонен. Следователь морщится.
– А вы не догадываетесь? – какие-то чувства начинают пробиваться. Рада за него, не такой уж он и сухарь. Но раз пошла такая игра, зачем мне отказываться от неё?
– Вас интересуют мои догадки… – Семёнов заметно напрягается, пытаясь уловить смысл ответа. Он что, не знал, что слова, лишённые эмоций воспринимаются, как посторонний монотонный шум?
– Меня интересует одна ваша догадка. Как вы думаете, что вам грозит? – вот, заговорил почти как нормальный человек. Действует, так что я продолжу.
– Я думаю, что ничего – за исключением непредвиденных обстоятельств – типа упавшего на голову кирпича…
Эльвира как-то обречённо вздыхает. Семёнов смотрит на меня так долго, будто задался целью высверлить отверстие на моём непроницаемом лице.
– Вы сильно заблуждаетесь, Молчанова. Вам грозит следствие, суд и, соответственно, приговор суда. Как вы думаете, за что?
– Вот видите, вы сами всё знаете – зачем тогда спрашиваете – не понимаю я вас, господин следователь…
Знаков препинания, вопросительных и других интонаций в моём голосе нет. Семёнов морщится, я внутренне хихикаю.
– Что с вашей рукой, Молчанова? – а монотонность-то исчезла совсем.
– Компрессионный перелом – забыла название кости – выбитый сустав – растяжение связок…
Ему требуется пауза, чтобы уложить в голове мой ответ. А мне нравится этот стиль.
– Как сломали руку?
– Подралась.
– С кем?
– …с несовершеннолетней гражданкой Грибачёвой Марией…
– Вот! – поднимает палец вверх следователь и просит нас подождать, пока он запишет наши показания. Ждём.
– Итак. Поясните подробнее, как вы сломали себе руку?
– Вы ничего не забыли, господин Семёнов? – я вспоминаю кое-какие инструкции от папиного юриста, лучше поздно, чем никогда, – …по какой причине вы меня вызвали – в качестве кого, свидетеля, потерпевшего, обвиняемого – каков мой статус – почему начали допрос, не ознакомив меня с обстоятельствами дела – есть ли вообще какое-то дело…
Это не так просто, изгонять из голоса малейшие интонации и эмоции. Но я стараюсь и результат есть! Семёнов делает движение, будто хочет схватиться руками за голову, вовремя спохватывается.
– Вы свидетель по делу о нанесении тяжких телесных повреждений гражданке Грибачёвой Марии, как вы правильно указали, несовершеннолетней. Вот её заявление, – Семёнов трясёт бумажкой, – Вот справка из больницы.
– И что с ней? – с трудом подавляю жгучий интерес в голосе.
– Компрессионный перелом верхней челюсти, перелом восьмого левого ребра, сложный перелом лучезапястного сустава, – следователь смотрит так торжествующе, как будто зачитал мне самый жестокий приговор из всех возможных.
– Ого! – это в первый и, надеюсь, в последний раз мои эмоции вырвались наружу. Но я запомнила сразу, это перечисление повреждений звучит для моего уха лучше любой песни. Перелом того, перелом другого, о, музыка богов войны и победы!
– Но до чего же крепкая девица! – сейчас монотонности в моём голосе нет, я обращаюсь к Эльвире, – Мама, если бы меня так ударили, точно ребра три сломали бы. А у неё только одно. Кувалдами надо таких бить.
На моё «мама» Эльвира косится с подозрением, но в присутствии чужих не одёргивает.
– Как вы говорите? Хотите напасть на Грибачёву с кувалдой? – мгновенно цепляется Семёнов.
– …не выдумывайте – и не вмешивайтесь в мои разговоры с мамой, это личное…
– Почему вы позволяете себе такой тон? – о, заговорила рыбка человеческим голосом. Да и мне надоело.
– Что вы имеете в виду? – включаю интонации, но слабенько. Нефиг его баловать.
– Ладно, – устало отмахивается следователь, – Ответьте, за что вы избили Грибачёву?
– Ни за что. Она напала на меня, я защищалась.